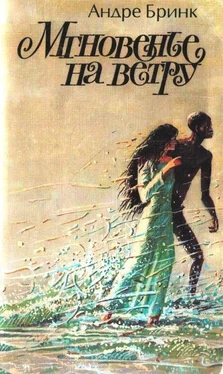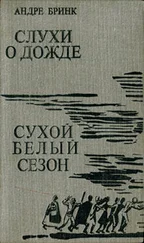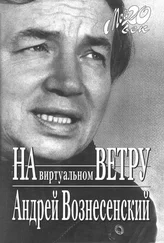Она произнесла это как приговор, подумал он.
И снова вспомнил разбросанные по лесу трупы слонов.
В то утро они нашли на берегу, среди выброшенных на песок водорослей и мидий, среди фарфоровок, морских звезд и морских ежей, одну-единственную раковину бумажного наутилуса — хрупкую колыбель забытых яиц, которая почему-то уцелела, несмотря на всю ярость волн.
Как они потом вспоминали конец того лета, конец тепла, чт о сохранилось в их памяти? Солнце вставало все позже, все раньше садилось, день незаметно убывал: по утрам туман долго не рассеивался, дни стояли прозрачные, ясные, лучезарные; сетуя, ворковали голуби, ласточки собирались в стаи, готовясь лететь на север. Просторы казались все шире, огромней, мир словно раздвигался в лучах почти негреющего солнца; ветер словно прилетал к ним из еще более дальних краев и истощал по дороге все свои силы. И от сознания хрупкости, непрочности еще острей щемило душу. Вечерами у костра они подолгу молчали.
— Хорошо, что моя мать не видит, как сшита эта каросса, она бы в обморок упала. Если в детстве у меня стежки получались недостаточно мелкие и ровные, она заставляла меня все распарывать и шить заново. В саду бегали мальчишки, играли, а я сидела взаперти с шитьем, — как же я его ненавидела!
— Неужто ты совсем не скучаешь о Капстаде?
Она поднимает голову, на лице ее играют отблески костра.
— Конечно, скучаю. Иногда.
…Осенние аукционы, толпа, владельцы виноградников и арендаторы… прогулки с важными гостями в Констанцию, фламинго, которыми они всегда любуются, остановив карету… на Львином хребте палят из пушек, вьются флаги, на набережной народ, суета… мать всегда запрещала ей смешиваться с толпой простолюдинов на пристани, но что ей запреты… завтра отплывают суда в Патрию и в Батавию, нужно успеть написать письма… звучит клавесин, горят свечи, дробясь в хрустальных подвесках канделябров, бесшумно снуют с подносами босоногие рабы, обмахивают гостей опахалами из страусовых перьев… дядя Якобс с отцом играют в шахматы в саду… когда матери нет дома, она носится во дворе с детьми рабов, хохочет, играет в их игры. Неужели тот мир все еще существует? И мать по-прежнему сетует на судьбу? Отец, наверное, еще больше замкнулся. Да полно, живы ли они все?
— И ты скучаешь о Капстаде, я уверена, — с вызовом говорит она.
…Рассказы его матери и бабушки о пламени, которое пляшет над кратером вулкана Кракатау, о прекрасных гибискусах и лотосах, о жасмине, коричном дереве и гвоздиках, которые так сладко пахнут, о бегстве Мохаммеда в Медину, о славных войнах полумесяца. Маленькая сухонькая старушка с ее мудрым фатализмом, наивная вера матери, которая путала Христа с Хейтси-Эйбибом и не отличала волю божью от воли хозяина…
— Матушка Сели, ты сбиваешь моего сына с пути.
— Глупенькая, я ему о белом свете рассказываю. А я его повидала, свет-то.
— Откуда? Из черного трюма?
— Зачем же из трюма? Раньше я его видела, в молодости. Где я только не была — и в Паданге, и в Смеросе, и в Сурабайе. Тогда я была свободной.
— Ты и сейчас свободная. Хозяин вон отпустил тебя на волю.
— Пусть он этой волей подавится.
— Что ты, матушка Сели, как у тебя язык повернулся, ведь он — хозяин!
— Хозяин? Раб он, а не хозяин. Раб своих рабов. Что он без них? Пустое место. Ты слушай, Адам, слушай, что я говорю.
— Не смей забивать голову моему сыну такими крамольными мыслями! А ты, Адам, слушай свою мать и хозяина, понял? Забудь, что сейчас говорила бабушка!
Вот он стоит у верстака и обтачивает ножки для стола, из-под рубанка сыплются кудрявые стружки, ноздри щекочет запах можжевельника. Вот поднимается на гору за дровами, глядит на раскинувшееся внизу море… Изюм на чердаке… Осень, урожай убран. На гумне молотят зерно, с виноградников несут полные корзины и высыпают в давильни, а потом, держась за брус, давят спелые кисти, пляшут на них, прыгают, не чуя под собой усталых ног, ягоды лопаются, между пальцами с чавканьем вылезает благоухающая мякоть, в подставленный внизу бочонок струей льется сладкий сок. Оставшуюся массу протирают через сплетенную из бамбука циновку, сливают виноградное сусло в огромные чаны и оставляют бродить, и вот оно стоит много дней, кипит, пенится. А потом везут вино в город, Адам сидит высоко на бочке, похлестывает длинным кнутом сытых раскормленных волов, рядом бегут собаки, прыгают, заливаются лаем. Вот и гавань, там грузят корабли, которые поплывут далеко-далеко — в Амстердам и в Бютензорг, в Тексел, конечно же, в Серабангу и Сурабайю, о которых рассказывала бабушка Сели, и во все концы света повезут выжатое им вино, повезут на свободу…
Читать дальше