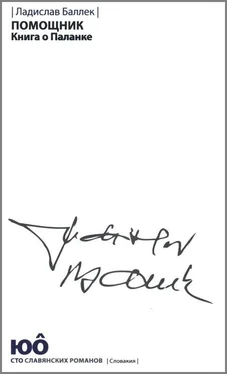Дом со всех сторон был окружен каштанами и кленами, местами они стояли столь близко, что во время ветра их ветки стучали в окна, нагоняя по ночам страх. Как только распустились листья, дом окунулся в зеленые сумерки, от которых, неизвестно почему, человека охватывает волнение, мужчина вдруг начинает думать о пышной белотелой женщине, какими они бывают весной, а здесь — в утробах этих домов, окруженных густой зеленью, — наверно, и круглый год. А когда расцветут каштаны и забелеют тяжелые гроздья белых свечек, человек ни утром, ни днем, ни ночью не сможет расстаться с грустью. Вокруг цветов кружат насекомые, назойливо льнут на этот запах и не позволяют человеку забыть о давно утраченных днях, когда люди не умели и не должны были сдерживаться. Насекомые, кружащиеся в этом душном аромате, жужжат что-то об утре человеческой жизни, в то время как свечи каштанов навевают мысли о недолговечности и неотвратимо близящейся вечной ночи.
Речан ступал осторожно, но стук его кованых сапожищ был слышен на самой улице, песок под ними поддавался нехотя: шуршал и скрипел. Конечно, услышали его и в доме. В открытом окне на первом этаже двинулась тяжелая кружевная занавеска. Она зашевелилась, потом кто-то немного отодвинул ее, словно решил наконец не скрывать своего присутствия за окном. Высунулась головка дочери, в полутьме какая-то даже неестественно светлая. Девушка, не спуская с него глаз, холодно и нетерпеливо ждала, когда он подойдет ближе.
Эва в эти дни очень страдала из-за Куки, «студентика», как его называла жена. Парень уехал в Братиславу, здесь его, как он говорил, ничто не держит, зато довольно часто писал своей бывшей ученице письма. Она скрывала их от родителей, ни за что на свете не хотела показать матери, и обоим родителям казалось, что содержание их ее чрезмерно волнует: прочитав, она всякий раз подолгу ходила из комнаты в комнату, как в полусне, или же часами сидела в саду или у окна, и достаточно было подать голос, чтобы она взорвалась. Письма ее будоражили. Сначала она отвечала на них вместе с матерью с помощью оборванного чешского письмовника, представляющего образцы писем на все случаи жизни, но сейчас писала сама, и только тайно, чаще всего, когда оставалась дома одна.
Речан никогда не был в восторге от Куки, парень с первой минуты был ему не по душе, оживленная переписка дочери чем-то ранила его. Но он был бы не он, если бы не попытался, пусть даже с трудом, отыскать в этом и светлую точку: теперь Эва меньше думает о своем первом, трагически оборвавшемся романе там, наверху, в горах. И его отцовская проблема сразу становилась проще.
Он всегда думал о дочери только с нежностью, ему никогда не приходило в голову, что ее светлая, красивая, но туповатая ягнячья головка может вызывать в мужчинах жажду причинить ей боль. Ему, разумеется, она ягненка не напоминала. Ягненок? Почему ягненок? Он, наверно, удивился бы, если бы кто-то сравнил ее с маленькой овечкой, но Эва, его дочь, разительно напоминала ягненка. По крайней мере так казалось Куки. В его темной мальчишеской душе она действительно возбуждала жестокость, какую возбуждают в таких парнях туго соображающие женские существа с красивым, но невыразительным лицом, которое, как правило, выдает наклонность к скуке и духовную леность. В конце концов, он-то ее знал, он же ее учил. В письмах он мучил ее, рассказывая о своих ночных видениях, тяжелых снах переходного возраста и всяких подробностях своей сексуальной жизни. А она любила его.
Речан не мог понять, почему дочь все еще так жестока по отношению к нему, ведь он уже столько раз искупал свою вину, презирает его, словно он ей и не отец. Он не понимал этого, потому что ему никогда и в голову не приходило, что она на нем вымещала свою злость за боль, которую ей причинял студент. Может быть, она считала, что, не будь отца, все могло бы решиться иначе. А может, она и не думала об этом, но у нее так получалось помимо воли.
Он очень удивился, что дочь его ожидает. Такого еще не бывало. Что случилось? Сегодня они с матерью были у врача… Господи, пронеси! Уж не легкие ли? Господи, только не это! То-то он замечал, что она бледненькая…
Не успел он торопясь подойти и взглянуть в ее прищуренные глаза, как она холодно произнесла:
— Волент уехал? Мама интересовалась…
Он остановился, перевел дух и потом со счастливой улыбкой кивнул. Головка отвернулась и сразу же исчезла за занавеской. Вот и все, подумал он, что им нужно. «Мама интересовалась», — в сердцах повторил он и покачал головой. Ну и спрашивала бы сама! Но нет, посылает к окну дочь! С тех пор как переехала сюда, в этот новый дом, с ней сладу нет. Он, наверно, по пальцам мог бы сосчитать, сколько раз она с ним здесь разговаривала по-хорошему. Хмурится, ворчит, вечно шпыняет его, — а то и просто не разговаривает по целым дням, безо всякой причины, конечно. Вечно дуется, что он, дескать, ни в чем ей не потрафит. А стоит ему повысить голос — ведь ее раздражение и злостное молчание угнетают его, — она тут же набрасывается на него: почему, мол, он одевается, как извозчик. Если он сразу не замолчит, ему приходится выслушать град ругани и обвинений. Она даже во время обеда, даже в присутствии Волента и ученика позволяет себе прикрикивать на него, как на батрака, язвительно, беззастенчиво и с каким-то чувством превосходства, как будто он вообще ничего не значит в этом доме. И если он, сконфуженный перед Волентом и учеником, начинал протестовать против такого обращения в собственном доме, тут же вступалась дочь: «Отец, вот опять вы ругаетесь! Мать права, вы чавкаете! Я же слышу, как чавкаете, не глухая!»
Читать дальше