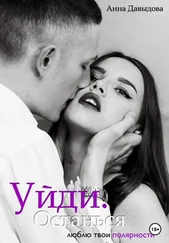— Ты собираешься платить за квартиру? — спросила миссис Марсикано внизу лестницы.
— Я заплачу, миссис Марсикано, — сказала я.
Я улыбнулась ей. У нее были усики и две родинки, и от нее пахло кислятиной и тухлятиной, как от сырой, начинающей портиться телятины.
— Я сейчас как раз иду к мистеру Миллеру. Мы вернемся вечером. Он возвращается в квартиру, и он заплатит…
Но она сказала:
— Ты мне все время это говоришь. Чему я должна верить? Мистер Миллер… его нет уже два месяца. А ты все время говоришь, что он заплатит. Откуда же мне знать? Чек, который ты дала, мне не оплатили, а ты должна мне сто восемьдесят долларов…
— Мы вам заплатим, — сказала я, продолжая улыбаться ей. — Не волнуйтесь, миссис Марсикано, я вам дам хороший чек…
Но она сказала:
— А-а, меня от тебя тошнит, — и, повернувшись, пошла вразвалку, почесывая руки, а ее собака-дворняга, черная, с глазами с красной каемкой, подняла ногу и написала на ступени.
Я слышала, как миссис Марсикано протопала по коридору, видела, как она исчезла в темноте, и собака скрылась за ней. Она была права, и я это понимала, и птицы где-то шебуршились в коридоре — я послушала, как они шумят, но я знала, что Гарри позаботится обо мне. Я ни минуты не могла подумать, что так будет — ведь в банке полно денег, моих денег, а потом я вспомнила: все, что зайка прислал мне ко дню рождения, я истратила, и я вспомнила, что купила фонограф, и все пластинки, и часы «Бенрус», — в моей утробе полно ценностей и все в сохранности, и стоило мне это тридцать девять долларов девяносто пять центов. Слишком дорого для часов, но я знала, что это хорошие часы и красивые, с изящными стрелками; в какой-то пьесе кто-то сказал: «похабная стрелка часов указывает на полдень». Я заглянула в сумку: Гарри был прав. Однажды он спросил меня, кто лишил меня невинности, и я сказала: «Велосипедное седло по имени Мальчик-Дикки». Когда мы легли в тот день, я услышала во сне, как пел Папагено, и мне снились люди, танцующие на зеленом фантастическом лугу, и песок, и пирамиды; тогда мне впервые приснились птицы — они степенно пролетели над песком, и когда мы проснулись, Мальчик-Дикки не мог этого понять. Я посмотрела — часы были в порядке. Я прошла по коридору и вышла на тротуар. Волна жары поднялась с асфальта, виден был ее дымящийся и прозрачный след на жилых зданиях, и она потом прилепила платье к моей спине. Чарлз Марсикано был дурак, и он смотрел на меня своими глупыми глазами, и лицо у него было потное, словно смазанное жиром. Губы у него были всегда раскрыты, они облупились и потрескались, и он спросил:
— Куда это ты отправилась, Пейтон?
— Я пошла на Корнелия-стрит, Чарлз, — сказала я.
— Зачем, Пейтон?
— Найти Гарри, — сказала я.
— Хочешь, чтобы я забрал твой мусор, Пейтон?
— Нет, спасибо, Чарлз, — сказала я, — подождем до понедельника.
— О’кей, Пейтон.
Я ушла, оставив его стоять у ведра с водой, потея от жары и солнца, играя с чертиком на ниточке. У него глаза были как у Моди, а доктор Страссмен в Ньюарке сказал: «Спокойно. Спокойно. Мы должны это вместе выработать». Но: «Я не думаю, чтобы вы мне нравились», — сказала я. Помещение, как я и представляла себе, было антисептически, терапевтически чистое, с металлическими венецианскими ставнями, и у доктора Страссмена нос был красный от холода. «Но, понимаете, я считаю, что я умнее вас», — сказала я. «Возможно, но вы безусловно менее целенаправленны», — сказал он. «Возможно, — сказала я, — ноя, безусловно, больше понимаю причину моего состояния». — «Возможно, это и так». — «Возможно, это и так». Какое-то время мы так переговаривались, а потом он сказал: «Я хотел бы, чтобы вы не бросали лечение. Я хотел бы, чтобы у вас было больше терпения…», — а потом я забыла, что он говорил. Потом он сказал: «Дело не в том, что вы чувствуете себя виноватой по поводу сестры, это что-то другое, с нею не связанное». Когда я дала Моди упасть, я увидела, как синяк стал сине-зеленым, с крошечными порванными венами, но она не сильно плакала. Однажды зайка и я пошли погулять с Моди и стали спорить по поводу птиц. «Это дрозд», — сказала я ему, а он сказал: «Пересмешник». Птица лежала мертвая, и глаза ее были закрыты — ее подстрелил мальчишка из ружья, — Моди подняла птицу и стала гладить ее крылья. Страссмен сказал, что я неоткровенна и все путаю: «Вы опасно рассеяны, но что там такое было с птицами?» Он заинтересовался, а я не захотела ему говорить. Я шла по авеню, тени от зданий ложились на восток, и я шагала по этим теням, держа у сердца сумку и часы. «Вы слышали про бомбу?» — сказал какой-то парень и с криком помчался в кафе, где старый итальянец, парализованный и бледный, продавал лимонный лед. Мы каждое воскресенье вечером пили там эспрессо — тогда не было часов или необходимости в них; стены были голые, стулья железные, и Гарри цитировал Данте по-английски: «Теперь послушай, какой любви удостоена она» (глядя в мои глаза). Я сама видела, как он должным образом склонялся над неподвижным, дорогим мертвецом и часто устремлял взор в небо, ибо теперь там сидит любовь, которая (когда в ней теплилась жизнь) сосредоточивала внимание на радостной исчезавшей красоте. Благословенная Беатриче. И я сказала: «Пророчество?» И Гарри взял мою руку, а итальянец подошел вытереть парализованной рукой пролитое эспрессо, и Гарри сказал: «Ты никогда не умрешь, ты любовь, которая движет солнцем и всеми звездами». А я думала о смерти и бездеятельности, и я отняла у него руку, и мне показалось, что я услышала за стенами спокойный, мирный шелест нелетящих крыльев. Почему Гарри сказал, что я не могу любить? Он должен знать про мои часы; я вошла под тент над кафе и вынула их из сумки, приподняв к свету.
Читать дальше
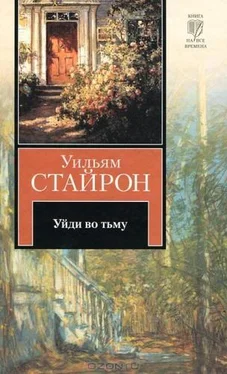





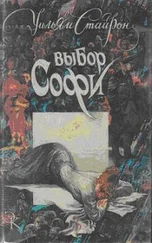

![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)