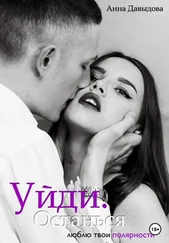Тони сказал:
— А ну, детка, сними их.
И я сказала:
— Нет, я не могу, Тони, просто не могу.
И он снова сказал:
— Почему?
— Да потому что мне больно! — громко произнесла я, и он с улыбкой нагнулся и поцеловал меня; я закрыла глаза и не разжала зубов, так что его язык попал мне под щеку.
— Нет, — сказала я, — нет.
Но когда я это произнесла, его язык прошел внутрь — я почувствовала запах молока. Он всегда говорил, что не может избавиться от этого запаха, сколько ни моется в ванне; сейчас, когда он был так близко, он него пахло как на молочной ферме, или в детской, или у фонтанчика с содовой водой, где давно не чистили, — запах молока обволакивал меня как жара. Я начала потеть. Я понимала, что поцелуй будет долгий с таким языком и непрекращающимся запахом молока, — я подумала о птицах. Бабушка была тоже из Лингбурга; зайка часто говорил, что лицо у нее было, как у ангела; он сказал, что она любила готовить печенье с орехами и изюмом и называла его «зайка», так что, когда он мне это рассказал, я стала тоже называть его «зайка»; «как прелестно и волнующе, — думала я, — быть бабушкой твоего отца и позволять ему взбираться к тебе на колени, такому же румяному, я полагаю, как сейчас; интересно, — подумала я, — эта прядь волос, что свисает на лоб, была там и тогда, серая, как пепел сигареты», тут Тони провел рукой по моему боку — молочной рукой. Вместо щекотки появилась боль, а щекотно не было; меня лихорадило, возможно, кожа у меня пожелтела, подумала я, как когда у меня была желтуха, потому что лихорадило меня также, и рука Тони причиняла мне боль, а не щекотала. Сейчас я чувствовала его язык — гладкий низ языка и мякоть под ним, болтающуюся, как гребень петуха, и я дала ему волю; я сказала ему однажды, что он как Прайд [29] Прайд — английский полковник, участвовавший в 1648 г. в парламентском бунте в Англии.
, как Овидиева блоха: он может пролезть в любой уголок девчонки, сесть на ее лоб, как завиток парика XVIII века, целовать ее в губы — как кто? Перья птицы. Фу, что это за запах тут! Я вспомнила, но он не понимал или считал, что я подразумеваю молоко. Он перестал меня целовать, смотрел вниз на меня, глаза янтарные, как капли от кашля, с голубыми точечками. Однажды я заплакала, когда Гарри привез меня на реку и сказал, что я прекраснее вечернего воздуха, наделена красотой тысячи звезд.
— Да ну же, черт бы тебя побрал, — сказал Тони.
Он снял мои штанишки, приподняв меня. Я думала о перьях, птицах, и когда он вошел в меня, стало больно, но не больнее, чем та, другая боль, постоянно теперь присутствующая, словно коготь ждущей птицы, — я обвила его руками, чувствуя его волосы. Я слышала стрекот часов так близко, точно они были у самого моего уха: тик-тик-тик, — минутная стрелка шагала по своей идеальной орбите, неся нас по небу, словно на грузовом поезде; мы с Гарри лежим, растянувшись у ручья, и дремлем, зеваем, потягиваемся и поворачиваемся, и смотрим на передвигающиеся бриллианты, рубины, красные, как кровь с перерезанного горла голубя, идеально расставленные среди точно размеренных, божественно тикающих колесиков. Укрытые от неба, словно тонущие, только лучше: водянистое солнце в подводной лодке освещает вечным, дневным светом полированную сталь, которая вспыхивает и сверкает, так что у нас всегда будет свое солнце весной и наша любовь. Когда все кончилось, я заплакала.
— В чем дело, детка? — сказал он.
— Ни в чем, — сказала я.
— Ну так прекрати, — сказал он. — Можно подумать, что мы не знаем друг друга. Ты сейчас скажешь: «Но я недостаточно хорошо тебя знаю». Ты так скажешь?
— Я недостаточно хорошо тебя знаю, — сказала я.
Он сказал:
— О, ради Христа, меня бросает от тебя в дрожь. С тобой так весело, как с палкой.
Я повернулась на бок и стала смотреть на часы — я больше не плакала. Я услышала, что Тони включил воду: моется, снова напевает, — и я попыталась вспомнить, сколько же времени я его знаю — может быть, месяц, неделю, — трудно сказать, только в первый раз это было как-то связано с печью для сжигания отходов в коридоре, потом мы с ним пили пиво, разговаривая о птицах, а когда проснулась, я почувствовала гнездо на его плече, где волосы. Я имею в виду — птичье; происходило что-то непонятное — я это понимала. Я вытащила кнопку из будильника и посмотрела в дырочку, но увидела лишь маленькую каемку белого металла — под этот колпачок проникает свет, — а снаружи стрелки, светящиеся точки; все это будет на моей совести, и мы с Гарри, слава Богу, избежим этого. Ленин сказал, что нет Бога, а Сталин сказал: коллективизация + электрификация = Советская власть, все работают как часы: — тик-так, а когда Алберт Берджер сказал это, глаза его полны были слез, точно он надышался газа.
Читать дальше
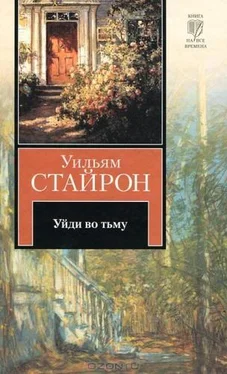





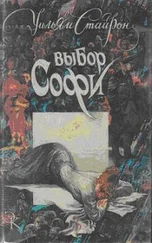

![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)