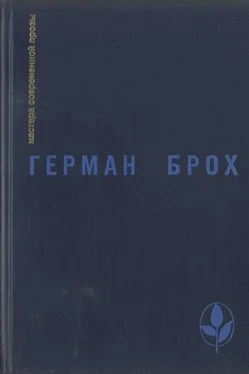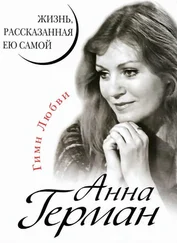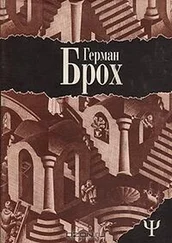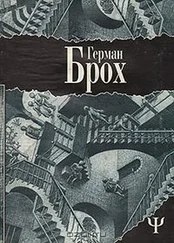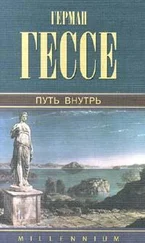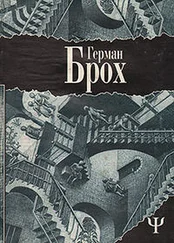— Она твоя, Октавиан.
— Просто поскольку я поверенный римского народа; у других есть личная собственность, у меня ее нет, и ты это знаешь.
Теребя в суетливо-беспокойных пальцах отщипнутую от венка ветку лавра, Август стоял у канделябра — стоял овеянный, осененный, обрамленный лавром, красивый, элегантный, царственный, но все, что он говорил, хоть он сам в это и верил, было чистой ложью, ибо кто же не знал, что он весьма энергично и небезуспешно приумножал до гигантских размеров семейные владения и богатства Юлиев? Все знали. И верно заметил раб, к счастью никем не услышанный: «Ты лжешь, Цезарь». Или Август все-таки это расслышал, поскольку он, устремив взгляд на сундук с манускриптом, будто чуть улыбнулся в ответ?
— В каком бы качестве ты ни соблаговолил ее принять, я отдал поэму тебе, Октавиан; но взамен я хочу просить у тебя одной милости.
— Условия, Вергилий?.. А я-то полагал, что это замыслено как подарок ко дню рождения…
— Это подарок, и без всяких условий: тебе решать, окажешь ли ты мне просимую милость или нет.
— Что ж, выкладывай свои условия; я заведомо им подчиняюсь. Но помни о своих собственных словах, мой Вергилий! — И лукавая дружеская хитринка снова мелькнула в глазах Цезаря. — Щади побежденного и потому умеряй свою надменность.
«Будущее», — молвил раб из глубины толпы.
Да, о нем-то он все время и помышлял: будущее, неизмеримо глубокое будущее человека и его добродетели, будущее смирения, — но в какое поверхностное настоящее все это снова превратил Цезарь, как хитро все повернул… Ну что ж — пускай «Энеида» достанется ему.
— Ты ограничил право отпуска рабов на волю, Август; но позволь уйти моим.
— Что? Прямо сейчас?
— Какой странный вопрос! Сейчас или не сейчас — не все ли равно?
— Не сейчас, Август, но сразу после моей кончины. Таково будет мое завещание, а тебя я прошу подтвердить его.
— Да конечно, я это сделаю… Но ты подумал о своем сводном брате, Вергилий? Он ведь, насколько я помню, ведет твое хозяйство в Андах. Согласится ли он с таким распоряжением? Ему придется туго, если ты разом лишишь его всех рабов…
— Мой сводный брат Прокул уж как-нибудь управится. К тому же он человек добрый, и они, даже получив вольную, наверняка у него останутся.
— Ну что ж, это уже не мое дело, мне ведь надо только подписать… Право же, Вергилий, если это единственное условие, которое ты намеревался поставить, мы могли бы и не затевать столь затяжной спор.
— Может, в нем все-таки и был прок, Октавиан.
— Да, прок был. — Август кивнул с серьезным и добрым выражением лица. — Прок был, хоть ты и отнял у меня немало времени.
— Но еще остается завещание, Октавиан…
— Если я не ошибаюсь, ты уже давно оставил его у моего архивариуса.
— Да, но теперь его надо дополнить…
— Из-за рабов? Тут спешить некуда: тише едешь — дальше будешь; с таким же успехом ты можешь все это оформить в Риме.
— Да и еще кое-что надо изменить; я не хочу откладывать.
— Вот для себя ты спешишь, а для меня нет… Однако же насколько срочен твой документ — это решать только тебе, и я не вправе, да и не хочу препятствовать тебе оформить его именно сейчас; только у меня на это уже нет времени, и потому я попрошу тебя передать или переслать его мне позже, дабы я засвидетельствовал и скрепил его своей печатью…
— Плотий или Луций — или оба вместе — принесут тебе завещание, Август; благодарю.
— Время торопит, мой Вергилий; представляю, с каким нетерпением меня там ждут… Тем более что и Випсаний Агриппа наверняка уже прибыл… Мне пора…
— Да, тебе пора…
Таинственным образом комната вдруг опустела; они были одни.
— К сожалению… Пора идти…
— Мысли мои будут в пути с тобою, Октавиан.
— Твои мысли и твоя поэма.
Взмах руки Цезаря — и, будто возникнув из пустоты, два раба стали перед сундуком и ухватились за его скобы.
— Это они ее унесут?
Легкими быстрыми шагами Август приблизился к постели, и в тот момент, когда он чуть заметно склонился над ней, он снова был Октавианом.
— Ее сберегут, Вергилий, а не унесут. Пусть вот это будет тебе залогом.
И он положил на одеяло веточку лавра — ту, что все время держал в руках.
— Октавиан…
— Да, Вергилий…
— За многое тебя благодарю.
— Это я благодарю тебя, Вергилий.
Рабы подхватили сундук, и, как только они сделали с ним первый шаг, кто-то зарыдал, не в полный голос, но все же истово, с той безутешностью отчаяния, что прорывается чаще всего тогда, когда внезапно вторгается вечность в человеческую жизнь — когда, к примеру, погребальные слуги вздымают гроб на плечи, чтобы вынести его из комнаты, и родные вдруг разом осознают неотвратимость, вершащуюся на их глазах. То было рыдание пред ликом вечности, извечный вопль, посылаемый вослед гробу, и исторгся он из широкой, могучей груди Плотия Тукки, из его доброй и могучей человеческой души, из его растроганного и могучего сердца, — вопль, посланный вослед сундуку с манускриптом, что сейчас выносили из комнаты и что в самом деле был гробом, младенческим гробом, жизненным гробом.
Читать дальше