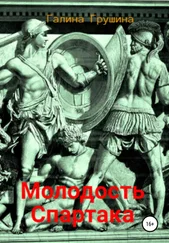— Брехня, — хрипло выговорил Николай. — Триста человек не могут ошибаться. Дура твоя училка.
— Ты правда так считаешь? — вскричал Александр — и внезапно почувствовал, как внутри у него поддается и прорывается что-то неохватное, что-то яркое.
Он уткнулся лицом в плечо Николаю, и толстый ватник Николая дохнул папиросным дымом и, неожиданно, вкусной домашней едой, и Александр заплакал, и не мог остановиться, как плакал когда-то ребенком; он плакал об этой жизни, в которой никогда ничего не происходит, плакал о матери с отцом, и о Викторе Петровиче, который убил столько лет в надежде, что что-то наконец произойдет, но тщетно, потому что ничто никогда не происходило ни с кем из них; а потом, даже не поднимая головы, он понял, что и Николай плачет тоже, содрогается от тяжелых, но каких-то детский рыданий, и его срывающийся голос пробивается сквозь всхлипы откуда-то сверху:
— Веришь, нет, Сашка, я ведь… я ведь не собирался свой билет продавать, это для дочки, она у меня хворая, сильно хворая, вот я и подумал: надо бы ей послушать кого-нибудь знаменитого, великого — глядишь, поднимется, сделает шажок-другой, а там и на поправку пойдет, не зря же говорят, что музыка лечит… Киоскерша, сука, мы ее подмазать хотели, а она слушать ничего не желает, вот мы все и стоим в очереди, жена, шурин, он хоть и извращенец, но мужик душевный, поет хорошо… А эти уроды — ничего святого для них нет, последнюю надежду растопчут, а сами…
Он умолк, захлебнувшись мокрыми рыданиями, и Александра охватило небывалое тепло, неодолимое желание высказать этому человеку свою внезапно накатившую благодарность, свою вскипевшую в сердце привязанность. Он попытался найти нужные слова, но мысли то и дело разбегались, а потому он просто мягко высвободил бутылку из рук Николая, воздел ее к свету фонаря и объявил:
— Спасибо, друг, пойло высший сорт, не то что та отрава, которую я до тебя пил — она и гореть-то не горела.
Хлюпнув носом, Николай поднял голову:
— Как ты сказал?
— Спасибо тебе, говорю, я считаю, что ты… это самое… здорово, что мы с тобой можем… как это…
— Во-во. — Николай вскочил. — Это ты хорошо придумал. У тебя в сумке бумага есть?
Александр тупо и покорно смотрел, как Николай выворачивает его сумку. На землю выпали две книги, пара школьных тетрадей, которые он давно собирался выкинуть, и какие-то мятые клочки.
— На растопку. — Николай схватил тетради, отталкивая ногой все прочее. — Книжки последний босяк не тронет.
Листы в клетку и в линейку, испещренные учительскими пометками, были тут же скомканы; затем Николай плеснул из бутылки на заднюю стенку киоска.
— Тут фонарей нету, риска меньше, — ухмыльнулся он. — Интим.
Что было потом, Александр точно не помнил. Николай матерился, дул на пальцы, потому что спички, вспыхнув, шипели и гасли одна за другой, пока первый осторожный язычок огня не лизнул смятую страницу, потом вторую, и вдруг полыхнуло пламя, обдавшее их светом и жаром, и вверх взвилось что-то слепящее, неудержимое и гневное, точь-в-точь похожее на ту злость, которая вдруг завладела Александром: он злился на вранье, на очередь, на невозможность хоть что-то узнать наверняка, на неспособность разорвать прогнившие путы времени, тугие путы пространства, которые спеленали их всех, — но он-то вырвется, поклялся он себе, с хохотом убегая по улице вслед за хохочущим где-то во тьме Николаем, он-то вырвется, и жизнь его пойдет совсем по-другому, так или иначе пойдет по-другому, ярко и полнокровно, как… как яркая, полнокровная жизнь этого таинственного гения, Игоря Селинского, который вовсе не умер, а живет в свое удовольствие, но, конечно, не корпит за письменным столом, а пускается в необыкновенные, фантастические приключения… или как вот эти круглые, блестящие колеса, что катятся по небу, с каждой минутой приближаясь к далекому, залитому светом, шальному городу… или как то пламя, которое — вспомнил он — он где-то совсем недавно видел, полнокровное, яркое пламя, которое ближе к рассвету продолжало плясать у него перед закрытыми глазами, когда он засыпал в своей промозглой, тесной комнате.
Перед тем как провалиться в беспамятство, он вдруг сообразил, что книги Виктора Петровича, взятые в тот вечер, остались валяться на земле вместе с жалким содержимым его опустошенной сумки, и на миг ему сделалось не по себе. Но дурные предчувствия, единожды вспыхнув, тут же умерли, как очередная зашипевшая и погасшая спичка, и он тихо засмеялся в подушку, видя перед собой великолепное безумие огня, его насыщенный, ослепительно-красный цвет.
Читать дальше