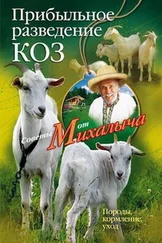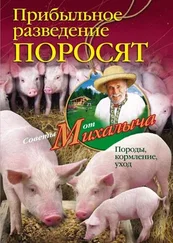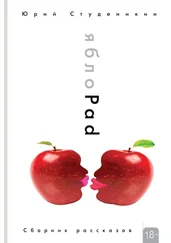Мать тогда была в добром настроении. Она рассказала, что жил давным-давно на свете один праведный человек, он крепко выпил и уснул под кустиком, а был он почему-то голый — «нагий», сказала мать, — но тут подошел его сын, начал с хохотом показывать на пьяного отца пальцем, глумиться. Смех разбудил отца, и тот, продрав кое-как похмельные глаза, проклял сына, имя которому было — Хам. Вот потому-то и появились мухи. В память о событии, вроде почтовой марки или медали. «Вот в родительском проклятии какая сила!» — наставительно заключила мать. «Как в атомной бомбе или сильней?» — полюбопытствовала маленькая Наташа. «И-и, бестолочь!» — был ответ.
Вспомнив об этом, Наташа перестала размахивать полотенцем.
— Мам, — спросила она, в волнении комкая его, — а ты меня не проклянешь, мам?
У нее даже голос сел, охрип.
— Чего-чего? — Мать и сама остановилась на полувзмахе. — Совсем сдурела? Вас, идолов деревянных, клясть — никаких слов не хватит! Одного весь день вразумляю, опомнился чтоб, а ему хоть кол на голове теши! Вон, дрыхнет уж!
Наташа выглянула на кухню. Витька прямо на пол бросил старый Халабруев полушубок и уснул, разбросав руки и ноги, будто былинный богатырь, павший от руки врага на поле брани. Он тихонько посапывал и выводил носом жалобные рулады. Только это и свидетельствовало, что в нем еще тлеет искра жизни. Сказалась, видно, бессонная-то ночка!
— И ты поспи, — неожиданно предложила мать.
Наташа справилась с голосом — ответила:
— Нет. Постирать надо Андрейке.
— Ложи-ись! Сама сделаю, заодно. Тонька мне порошку стирального иранского прямо на дом принесла. А мне, дуре старой, и невдомек, откудова такая милость. Ох, и стирает хорошо! Белье замочишь на ночь… А пены-то! Аж голубая. Глянешь: пиво! — Мать поглядела на свои руки и вздохнула. — И что дальше будет, как все повернется? Ума не приложу…
Мать была горда тем, что породнилась с Павлом Николаевичем. Как же, большой начальник. Говорила соседкам, хвасталась: «Витька-то мой, а? Первую в районе невесту отхватил!..» Ну, первую или нет — вопрос сложный, а вот свадьба и вправду громкая была. День — здесь, у матери, все наспех, комом, вроде репетиции; два — там, у невестиных родителей, в райцентре. Гостей там было много, все больше пожилые, чванные, слова в простоте не скажут — все с подковыркою, все с намеком. Один, когда Витька протискивался мимо, похлопал его по гулкой спине: «Хороший бык стоит половины стада!» — вот и разберись, злобствует он или пошутил. А невеста, правду сказать, Наташе не понравилась — ломака, худущая, с первого дня принялась мужем помыкать: «Виктор, сделай то», «Виктор принеси это».
— Они разведутся теперь?
Наташа расправила снятое платье и повесила его на спинку стула. Приехать домой в брюках, даже просто привезти их с собой она не решилась. И зря, наверное. Приятно было босой топтаться по чистому, нагретому солнцем полу.
— Ох, не знаю я, ничего не знаю, — сказала мать. — За развод теперь полсотни платить. А кому? Опять ему, Витеньке! Кому еще? Уделят они ему чего из нажитого, а? Шиш с маком, на большее не надейся. Порог покажут: «До свиданьица, зятек дорогой!» А он-то, как муравей: все в дом, все в дом! И воду им провел, и канализацию. Стремился, жилы рвал… А вышел пшик. Опять без порток. Ладно, спи!
И Наташа легла, подложив ладони под щеку и тихонечко застонав от наслаждения. Ей снились легкие, беззаботные сны. Повинна в этом была большая, знакомая с детства подушка. Без наволочки, в линялом красном напернике, она пахла вкусно и душновато, — недаром мать с утра жарила подушки и перину на солнышке, во дворе, поставив Наташу с хворостиной возле — гонять кур.
…Разбудила Наташу напряженная, наэлектризованная, будто перед грозой, тишина. Именно в такой тиши скисает молоко, а больные-сердечники вытряхивают в трясущуюся ладонь крупинку нитроглицерина. Наташа открыла глаза и вслушалась. Мужской голос тихо, но ужасно напористо проговорил за окошком:
— Подними. Надо выяснить одно дело.
«Кто там? Что стряслось?» Наташа второпях натянула платье и, босая, простоволосая, трепеща от недобрых предчувствий и едва не наступив на Витькину ногу в сбившемся черном носке, через кухню, сенцы, мимо темного пахучего закутка, где астматиком пыхтел поросенок, выскочила на крыльцо. Ее ослепило солнце, пришлось зажмуриться, перед глазами поплыли радужные круги.
На веревке, натянутой вдоль забора, сохли Андрейкины пеленки; в цинковом корыте бесшумно лопались перламутровые мыльные пузыри. У окна, в дырявой тени большого дерева, где высоко тянули головы чахлые желтенькие «золотые шары», в жаркой форменной фуражке с полыхающим алым околышем и позолоченной кокардой — гербом страны, переминался Иван Поликарпович, участковый. Антрацитно сияли его ботиночки, маленькие, как у подростка. Участковый тихо требовал, упираясь в мать глазами:
Читать дальше