Стилистика Динесен, как ее культура и тематика, не отсылала к образцам эпохи; это был особый случай, гениальная аномалия. При появлении «Семи готических историй» ее проза ошеломила англосаксонских критиков несколько старомодной элегантностью, изыском и вызовом, игрой и дерзостью эрудиции, а также слабой, а то и вовсе никакой, связью с живым английским, которым изъяснялись на улицах. Но еще и юмором, тонкой, улыбающейся ироничностью, с какой в этих новеллах рассказывалось о невероятной жестокости, низости, бессердечии, словно это были повседневные пустяки. Юмор у Динесен — великий амортизатор любых злоупотреблений, которыми переполнен ее мир, будь они плотскими или духовными, крупица, очеловечивающая бесчеловечность и придающая переносимый вид тому, что иначе вызвало бы отвращение или ужас. Чтение ее прозы как мало что другое убеждает: рассказать можно обо всем, если уметь это делать.
Литература для Бликсен была тем, что современных ей писателей только отпугивало: бегством от реальной жизни, занимательной игрой. Сегодня ситуация переменилась, и читатели понимают ее лучше. Делая литературу путешествием в воображаемое, хрупкая баронесса Рунгстедлунд вовсе не уклонялась от моральной ответственности. Напротив, забавляя, привораживая, развлекая, она вносила свой вклад в утоление такой же древней потребности человеческих существ, как потребность в еде и украшениях, — я говорю о жажде ирреального.
Джон Апдайк
Шехерезада
© Перевод с английского Елена Суриц
Карнавал. Занимательное чтение и посмертные рассказы Исака Динесена. — Юниверсити оф Чикаго пресс. — 338 с.
В интервью, которое Карен Кристенсе Динесен, иначе баронесса Бликсен-Финеке, в 1956 году согласилась дать «Пари-ревю», она объяснила, как пришла к своему, в нашем веке редкостному, мастерству сказительницы: «Собственно, писать я начала до Африки, но думать не думала о писательстве как о профессии. Я опубликовала несколько рассказиков в датских литературных журналах еще двадцатилетней, и даже были поощрительные рецензии, но продолжать не собиралась, ну, я не знаю, какая-то боязнь безотчетная — втянуться, впасть в зависимость… Потом уже, когда стало ясно, что придется продать мою ферму и вернуться в Данию, — тут-то я и стала писать всерьез. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, взялась за сказки. Тогда и написала две из „Семи фантастических историй“. Зато рассказывать я научилась раньше. У меня, понимаете ли, были замечательные слушатели. Белые люди разучились воспринимать сюжет на слух. Ерзают или клюют носом. А туземцы умеют слушать. Вот я им и рассказывала истории, всякие-разные истории».
Но истории Исака Динесена замечательны, конечно, не только дразнящим напряженьем, волнующими поворотами, бесценными при устном сказе. Серебряную нить сюжета ведет чеканность безупречных фраз; величавый разлив пейзажей, вызванных к жизни глазом художника; характеристики, полные странной, отрешенной нежности и философского ума, который свою пронзительность унаследовал от земляка, от Киркегора, но еще больше взял от XVIII века, всегда обуздывавшего коварную игривость, страсть к разрушению иллюзий любовью к равновесию, к покою. Воображенье Карен Бликсен способно, кажется, ее перенести в любой закоулок европейской истории и там найти сюжет, тронутый лоском и подернутый полупрозрачной тенью средневековых аллегорий. Мощь интеллекта и виртуозное владенье ремеслом оживляют и такой материал, из какого в других руках вышла бы разве что костюмная драма, надуманная, ходульная и вялая. В те дни, когда заурядный литератор все, что было до XIX века, жаждет эффектно «освежить», она берет косматую готику, отставные законы романтизма и уверенно вписывает в круг наших, вечных, теперешних людских забот. Датчанка, писавшая по-английски под мужским именем [68] Странное заблуждение некоторых недатчан, в основном американцев, которое переводчику довелось обсуждать с датскими коллегами на конференции, посвященной Карен Бликсен (в 1995 г., у нее в наследственной усадьбе Рунгстедлунд, превращенной теперь в музей): в Дании имя Карен Бликсен знает каждый ребенок, этим именем называют улицы и рестораны, все от мала до велика ее читают на родном, датском, языке, ее портрет был одно время на пятидесятикроновой купюре, он есть на почтовых марках, — а о Динесене почти никто не слышал. Кстати, немцы и вовсе называют ее исключительно Таня Бликсен, одним из домашних ее имен, и никак иначе. (Здесь и далее — прим. перев.).
, она стояла несколько особняком, кое-кто на нее посматривал с предубеждением, Шведская академия, кстати, ухитрилась так и не дать ей Нобелевской премии (хоть она дожила до почтенных лет и обладала негласным преимуществом как скандинавка), о чем и помянул Хемингуэй в собственной Нобелевской речи.
Читать дальше


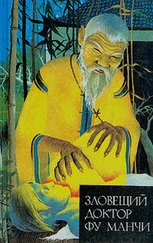



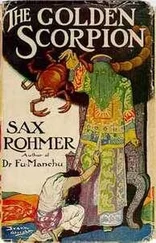
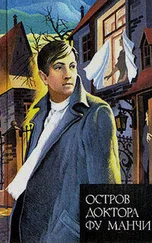
![Сакс Ромер - Ведьмино отродье [английский и русский параллельные тексты]](/books/33237/saks-romer-vedmino-otrode-anglijskij-i-russkij-thumb.webp)


