Погруженный в мрачные мысли, я побрел обратно в пустошь, и душа моя окрасилась в безрадостные краски. Воображение рисовало Сесилию и картины ее ужасной судьбы. И в каждом видении мнилась мне дочь галантерейщика, как она сидит за вязанием или за прялкой, как всплескивает руками. И в грустной перепевке ржанки, и в монотонных жалобных трелях одинокого жителя пустоши — жаворонка — слышались мне эти исполненные подлинной печали, прочувствованные множеством тысяч израненных сердец слова:
С милым на свете расстаться —
С горше горького горем в душе остаться.
Ингер Кристенсен
Два эссе
© Перевод Михаил Горбунов
Я не посредник.
Я не рассматриваю писателя как посредника. И поэтому не рассматриваю ни каналы, ни рабочие места, ни тюрьмы как нечто, требующее от меня занять определенную позицию. В мои планы не входит быть ни посредником, ни законодателем мнений или идей,
и, если, против моего желания, меня используют в таком качестве — возможно, со злым умыслом, — я предпочту рассматривать это как побочный эффект или неизбежное зло.
Итак, в качестве первоочередной задачи писателя я не рассматриваю влияние на общественное мнение,
я даже не рассматриваю воздействие на разум людей как какую-то особо центральную задачу.
Я хочу влиять на слепоту.
Люди творят Историю в причудливом сочетании разума и слепоты.
Мы знаем, что такое разум, у него есть свои вариации, легко может оказаться, что они станут многочисленными, практически необозримыми, но в принципе разум — это фактор известный.
А влиять всегда стоит на неизвестный фактор.
Но ведь наши поиски истины не могут влиять на слепоту. Ничьи взгляды не могут влиять на случай.
На результат бросания костей влиять вообще нельзя.
А требуется повлиять именно на результат бросания костей.
В качестве задачи писателя я рассматриваю создание кода, который позволяет считывать результат бросания костей.
Изобрести такую систему координат, которая случай делает необходимостью, представить себе такую знаковую систему, которая транслирует слепоту,
короче говоря, в качестве задачи писателя я рассматриваю занятие невозможным, недостижимым, тем, что не здесь,
опыты по использованию языка, который не существует, — пока не существует. Этот несуществующий язык я называю бесклассовым языком. Точно так же, как несуществующее общество многие называют бесклассовым обществом.
Что сны, что сочинение стихов, что хорошие манеры — сам не замечаешь, а они уже глубоко в тебя въелись и создали множество чрезвычайно живучих клише. Стоит только раз увидеть именно тот сон, какой следует видеть по Фрейду, и начинаешь видеть его раз за разом; стоит единожды увидеть, как что-то повторяется, и видишь это снова и снова — и скоро перестаешь видеть что-либо другое: поэтические нормы приличия, привидение во всей красе.
Среди прочего, сюда относятся и те самые настоящие ветряные мельницы, с которыми вступает в бой всякий писатель, когда критикует свою работу, а тем самым и свою жизнь. Несколько лет назад шведский писатель и критик Йоран Пальм высказал примерно такую мысль: к чему писать о лошадях, когда известно, что у большинства фермеров уже трактора. Впрочем, и тогда, когда лошади еще были, и тогда, когда их уже не стало, многие строили свою поэтическую тактику по сходным рецептам. Многочисленные хромированные части, которые в наши дни сверкают в наших стихах тем же глянцем, как в былые дни лошадиная сбруя, — это вполне естественно. Но почему бы не довести все до логического завершения, не продвинуться дальше и не изменить поэтическую стратегию? Зачем, в сущности, писать о природе, если большинство людей живут в городах?
Если будет позволено, я бы сказала так: разумеется, это все разговоры. Но, конечно, другое дело, что в них есть доля истины.
Когда пару лет назад я жила в Кнебеле, в заповеднике Мольсе, из моего окна я видела деревья, поле и небо. Я вела длинные беседы с этим пейзажем, продолжала их во время долгих прогулок; там всегда можно было подобрать какое-нибудь замечание, оброненное на пляже, на холмах или между прижавшимися друг к другу домами и садами. Беседы, которые велись уже столетиями и которые я более или менее терпеливо продолжала сплетать дальше, — примерно столь же терпеливо, как пашет крестьянин, и неважно, тянет ли его плуг лошадь или трактор. Но однажды этот крестьянин сказал: барыш маловат и едва покрывает расходы; в городах лучше. Это классическое объяснение бегства из деревни в город меня вполне устроило; я уложила свою ручку, бумагу и уехала. И хотя на самом деле все произошло далеко не столь просто, сейчас мне кажется, что все достаточно просто и никакое другое объяснение не подойдет лучше.
Читать дальше


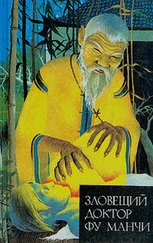



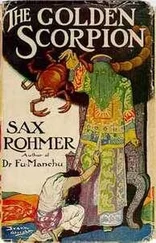
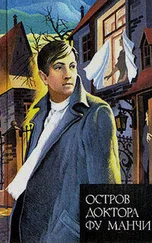
![Сакс Ромер - Ведьмино отродье [английский и русский параллельные тексты]](/books/33237/saks-romer-vedmino-otrode-anglijskij-i-russkij-thumb.webp)


