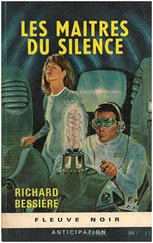Я встретился с ней в Париже в кафе на площади Эдмона Ростана, напротив Люксембургского сада, где обычно назначал свидания большинству своих подруг. Эту юную уроженку Лимузена, готовившую диплом магистра на тему освещения Лимузена в политической прессе, я представлял себе такой же, как большинство молодых людей ее поколения, вступившего в эпоху постгуманизма: почти невоспитанной и лишенной элегантности. Но на самом деле я хотел, чтобы она была совсем не такой, какой рисовал ее мой разум. Мне хотелось, чтобы она была красива, желанна, отвечала моим вкусам. Я даже молил судьбу, чтобы она хотя бы раз оказала мне такую милость. И вот я увидел приятную молодую женщину с очень короткими волосами, высокую, стройную, хорошо сложенную, притворно безразличную, слегка смущенную, но недостаточно для того, чтобы часто не смеяться. А ее смех вовсе не походил на крики бекаса, довольного, что находится в компании человека, как говорили, знаменитого, потому что он работал в прессе.
Мы поговорили о ее работе, потом о ней самой. Она была дочерью врачей из Эглетона, что на Верхнем Коррезе, но жила в Лиможе с матерью, которая покинула своего мужа, потому что терпеть не могла скуки корризианской жизни, и, перебравшись в административный центр Лимузена, открыла свой кабинет. Одри была счастлива, узнав, что мои родители тоже были в разводе, словно это сильнее связывало ее со мною и делало наши отношения более искренними. Несмотря на значительное число разводов, французы формируют отдельное общество, нечто вроде братства. Это относилось к моему времени, сказал я ей, но теперь играет намного меньшую роль. На это она ответила, что это выражение «мое время» меня старило.
– Меня старит?
– У меня о вас было другое представление.
Это представление не имело ничего общего с моим внешним видом: Одри видела мои фотографии, против публикаций которых, вы помните, я не возражал, и не только потому, что они позволяли рассеять всякие заблуждения относительно меня, но их публикации способствовали утверждению моей репутации самого уродливого журналиста Франции. А следовательно, все представляли меня более умным, более одаренным, более изворотливым, чем я есть на самом деле, и почти опасным, а значит, влиятельным, даже в некотором смысле соблазнительным. Мое уродство вынудило одну из ее подруг назвать Одри очень смелой, поведала она мне с невинной жестокостью, словно решила показать, что, согласившись переспать со мной, приносит себя в жертву. Эта фраза меня обидела: несмотря на всю ненависть, которую человек может питать к самому себе, на отсутствие иллюзий, на ежедневную необходимость смотреть правде в глаза, в душе всегда остается безумная надежда, что кто-то тебя посчитает красивым. Однако я был и остаюсь тем, кому никто и никогда не скажет, что он красив, пусть даже и своей, невидимой красотой, таившейся в очаровании столь же мрачном, сколь и сильном. Будучи неисправимо некрасивым, я был обречен на то, чтобы иметь дело с уродливыми людьми, подобно тому как другие люди подвержены рецидивам одной болезни, обычным ее признаком является меланхолия. Одри была исключением из этого правила, потому что она искала во мне, как этого и следовало ожидать, мужчину-отца, который отомстил бы тому, кто покинул и ее тоже. Это сказала мне сестра, для нее все мои теории представлялись невротическим вариантам поговорки «рыбак рыбака видит издалека».
Одри представляла меня старше, в какой-то момент мне показалось, что таким образом она пыталась сказать, что я оказался менее уродливым, чем она полагала. Очень молодые женщины – и это опровергало мою теорию эквивалентностей – обладают такой добротой, какую не встретишь у женщин пожилых, зрелых, ставших менее требовательными или более отчаявшимися. Я знал это, именно поэтому часто и подолгу с ними встречался. А теперь я повернулся к молодым в поисках чего-то другого, нет, не иллюзорной молодости и не в поисках некоего надуманного отцовства, а другого уровня отношений. Это в некотором смысле объясняется тем, что возраст меняет циклы сна и заставляет нас предпочитать утро потемкам, хотя в первой половине нашей жизни мы ложились спать очень поздно.
Я начал смотреть по-другому на девушек, на всех девушек, как красивых, так и уродливых или невзрачных, по которым взгляд просто скользит. При этом я не могу даже рассмотреть возможность занятия любовью с какой-нибудь некрасивой молодой женщиной. А ведь двадцать лет подряд я встречался с женщинами, которых практически никто не желал. Почему я не могу представить в своих объятиях девушку, какую я когда-то увидел на вокзале «Монпарнас». Она вошла и села не на одиночное приставное место, где ей было бы удобно, а напротив молодого человека, он был хорош собой, как сказала бы сестра, и, как я успел заметить, читал «Записки из подполья» Достоевского. Эта книга была одной из тех, что произвели на меня наибольшее впечатление: чтобы написать такую книгу, я отдал бы все. Девушка была отвратительна, у нее были все признаки уродства современной вульгарности: бритая голова, рваные джинсы, кроссовки на ногах, наушники в ушах, кольцо в нижней губе, татуировка саламандры на плече. В руке была ежедневная газета «Либерасьон», она жевала резинку, что только подчеркивало злобность выражения ее лица. Я подумал, что она была наркоманкой в период ломки, или у нее были критические дни, или она сама себя ненавидела. Девушка поставила ноги на сиденье напротив, чтобы этим грубым движением показать свое присутствие и не дать никакому мужчине или женщине возможность сесть рядом с молодым читателем, на которого она частенько поглядывала, то томно, то гневно, безуспешно стараясь оторвать его от чтения. Когда же она поняла, что я внимательно наблюдаю за ее уловками, пронзила меня убийственным взглядом, готовая, я это чувствовал, оскорбить меня или заплакать. На станции «Сен-Пласид» молодой человек поднялся и с вежливостью, граничившей с оскорблением, извинился перед ней и вышел, оставив ее разочарованной, разозленной, со слезами на глазах, еще более одинокой, чем когда-либо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу