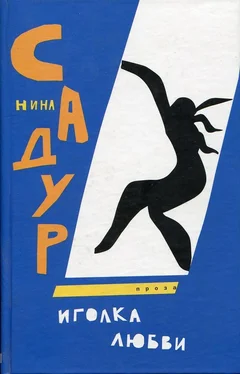— Камень! — крикнул мне Леонард. — Еще будет у вас одна жизнь. Следующая! В ней вы будете — камень!
— Одумайтесь, — сказала я, бледнея. — Одумайтесь, Леонард. — И угроза прозвучала в моем голосе.
Опустив глаза, он сказал, что от земли до самого синего неба все то пространство, что мы зовем волей и родной природой, где мы дышим полной грудью, где, теряя связь со временем, заглядываемся вверх, желая проникнуть хотя бы взором туда, где еще лучше, что все то пространство, но нет, я не могу это сказать… Короче, он смутился, он сказал, что перепутал, что не камнем я буду, а травинкой. Но очень незаметной. А потом попросил, чтобы я спросила, кем же был он сам в своих навсегда прошедших жизнях?! Сколько помнит себя — царем. Был даже каким-то Навуходоносором.
— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался Степа. — Это лопухи, что ли?
— Ну конечно! А тут пришел ты!
…демонами. Пронизано. Парящими в синеве демонами. Так сказал костяной гость, пытливо глядя маленькими глазками. В синем небе парящие демоны. Желал остановить сердце.
Тут пришел Степан, я сказала Леонарду: «Степа принес нам чего-нибудь вкусного», и Леонард через силу меня отпустил. Я знала, что Степа драчлив и нахален. Я ему зашептала:
— Видишь вон того, костистого? Он про тебя говорил, что ты смешон, убог и жалок. Что нету у тебя ни таланта, ни судьбы. Что твое красивое на сегодня сердце вскорости почернеет от ненависти ко всем нам и мы за это ответим тебе тем же.
— Ты чё, Николавна? — удивился Степан. — Ты чё, с дуба рухнула?
— Давай того, костистого, выманивай от меня. Осточертел!
…Был удлиненный летний день. Пришел красивый Степа, хвастун и задира. В белой, манящей рубашке. При нем думалось о море. Злой румянец на скуластой мордашке был, какая-то новая влюбленность на лбу, в руках букетик, кулечек и «дипломат» с вином.
Мы щелкнули крышкой «дипломата», Леонард склонился. Я же шуршала кулечком.
— О, российский! Мы и сыр порежем! — сказала я.
— Вино — так себе, — кивнул Леонард.
— А он какое принес?! — полез Степа.
— У него сейчас нету денег, — утешила я Степу, и Леонард снова кивнул.
Я предложила вот что. Надоело, можно задохнуться, а лето не ждет. Надо всего — перейти Садовую, и на той стороне, левее Филатовской больницы, в глубине поставлен на ремонт какой-то особняк. Дело не в нем. А вокруг него сама собой разрослась дикая трава, лопухи по грудь нам, никто не ходит туда. Вот там бы хорошо выпить.
— Почему — там? — сказал Леонард, тревожась.
Я сказала, что хочу на природу, а особая тонкая прелесть в запрещенности (хотя нигде не указано), в том, чтобы в центре Москвы сидеть на траве в лопухах, пить вино, как свободные, а внизу шипит и вскрикивает машинами Садовое кольцо. Я сказала, что это изысканно.
Они мне оба поверили.
Вначале я зло подмечала, как Леонард тонет в лопухах, цепляется, как он озирается, боясь деревенского буйства зарослей, тупо топчет кашки, боится кузнечиков и от зеленого шарахнулся, с отливом, круглого жука, который влез наконец на ромашку, та раскачалась до земли, жук разозлился, и спина у него как треснет, и вылезли черного муслина ли, газа прозрачные крылья, и: ж-ж-ж — отбыл. Но Леонард отъезжал, затихая. И все реже и реже я спохватывалась:
— Леонард, каково? Чем в четырех-то стенах киснуть!
Потом (день не кончался, стояла синева над лицом) мы со Степой лежали на траве, я уставала смеяться, что Степина великолепная рожица как раз угодила под деревенский широкий лист лопуха.
— Зелено, зелено… — возился друг, а я спрашивала:
— Ты когда-нибудь лежал средь бела дня в центре Москвы и безнаказанно смотрел в синее небо?
Тогда он отводил лопух от лица и, щурясь от сильного света, отвечал лениво:
— Вот сейчас лежу, Александра Николаевна. Вот спасибо тебе, когда придут менты поганые, крысы злые, бить нас ногами под ребра.
Но тут небо темнело, пропадало куда-то, а вместо него над нами качалось, все из костей, из ям и тревоги, зыбкое лицо кого-то высоченного. Кто-то его бросил, совсем одного, совсем один он остался, не знал, что и делать. И он пока нас не видел, но мог увидеть… но был еще далеко, высоченный, и Степан закрывался лопухом, а я просто закрывала глаза, а когда открывала, никого там не было, было опять синее глубокое небо, оно нас видело прекрасно, вон — в лопухах на обочине центра лежат, вбитые в обморочную эту землю, пусть полежат, пока лето, пока я синее для них; я толкала Степу рукой или ногой, чем могла дотянуться, и показывала на небо, но только Степа выглядывал: «Чего опять?», моргая из-под своего лопуха, на месте неба опять качался костяной.
Читать дальше