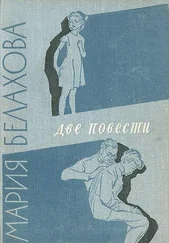Уступив его требованию, мать подала потом на развод, с формулировкой «по обоюдному согласию». То есть она отказалась от алиментов. Меня удивляет, что она вообще прочла письмо. Почта шла обычно через деда, он переправлял письма моей матери, а мать часто отсылала их назад, даже не вскрывая. В записях деда есть строчка: «Последнее письмо Паула получить отказалась».
Так или иначе, брак был расторгнут. Свидетельство о разводе было выдано 16 августа 1941 года окружным судом Вены. То есть в этом отношении мой отец, посаженный 14 сентября в тюрьму полицейского управления, был свободным человеком.
Когда его засадили в кутузку, я уже завершил свой путь в Дахау. Его они засунули в камеру 78-а, на пятом этаже, а меня несколькими неделями раньше забрали из камеры 44-а на третьем этаже. Думаю, его камера вряд ли существенно отличалась от моей: довольно просторная, практически целый зал, с четырьмя или шестью нарами, где содержалось не меньше дюжины заключенных. В углу — хорошо обозреваемое отхожее место. Те, кому не досталось нар, спали на матрасах, в дневное время сложенных в углу. Мы были пестрой компанией, сплошь политзаключенные, попавшие в лапы гестапо: пять или шесть интербригадовцев, воевавших в Испании; один фабричный рабочий, сломавший лодыжку, катаясь на Пасху на горных лыжах, и арестованный при госпитализации за организацию коммунистических ячеек; авантюрист, выдавший себя на перевале Земмеринг за гауптштурмфюрера, хотя не имел никакого отношения ни к партии национал-социалистов, ни к СС; так называемый «экономический воришка», проступка которого я уже не помню; сербский дипломат, арестованный после нападения Гитлера на Югославию; французский бродяга, по необъяснимым причинам выбравший целью своего путешествия нацистскую Германию; полковник в отставке, на которого донесла служанка за прослушивание вражеских радиостанций, и австрийский коммунист еврейского происхождения, выданный гестапо советскими спецорганами. Его звали Франц Коричонер, ему не было и пятидесяти, но выглядел он как глубокий старик. В то время как другие интербригадовцы шарахались от него, как от прокаженного, я устроил так, чтобы вечером мы лежали рядом; так я узнал о злоключениях Коричонера в Советском Союзе, где он в качестве мнимого нацистского шпиона или троцкиста — что тогда для нас было одним и тем же — много лет провел в разных лагерях в Заполярье. Там он заболел цингой, и у него выпали все зубы. Но, несмотря на свою судьбу, он не ожесточился. Он твердо верил, что ошибочный путь развития в Советском Союзе — он так это называл: ошибочный путь развития — будет исправлен. Что касалось его собственного будущего, то он смотрел на него с умеренным оптимизмом. Хуже, чем на Печоре или в Воркуте, в немецком концлагере быть не может. Гестапо сообщило его сестре, что он будет переведен в Маутхаузен. Но, как я узнал уже после войны, в конце концов Коричонер очутился в Аушвице. Через день после его прибытия туда, 8 июня 1941 года, он был зарегистрирован среди умерших. Так что Руди не встретил его ни здесь, ни там.
Могу себе представить, что камера Руди была населена похожими обитателями: сподвижниками по борьбе в Испании, которых и здесь не оставляло мужество, борцами Сопротивления, готовыми к худшему и нуждавшимися в нашем слабом утешении, жуликами, перед лицом великих времен соблазнившимися мелкими махинациями, которые стоили им головы. Лишь такой, как Коричонер, не мог очутиться в камере 78-а, и я не знаю, как его присутствие сказалось бы на самочувствии Руди — благоприятно, неблагоприятно или вообще никак.
Допускал ли Руди уже тогда, что попадет в Аушвиц, не могу сказать. Вероятно, он надеялся, что его переведут в Маутхаузен. Мы все мечтали попасть в Маутхаузен, были наивными дураками-патриотами. Мы ничего не подозревали о каменоломнях смерти, о лестнице смерти, о штольнях смерти. Он, конечно, знал, что ему светит концлагерь, потому что в открытке от 24 сентября писал отцу, что пробудет здесь, вероятно, только несколько недель. Он просил отца принести помидоры, сладкий зеленый перец, немного фруктов и еще маленький тюбик зубной пасты, старую ночную рубашку и пару стелек. Руди инструктировал отца, что тот должен прийти в один из вторников в 14 часов к референту по его делу в управление гестапо на Морцинплац, 4, в комнату 274. Он просил отца забрать его грязное белье (также по вторникам, с половины шестого до шести). Но самой срочной была, похоже, просьба, высказанная намеренно бодрым тоном, а именно — выяснить в Иностранном отделе NSDAP в Париже адрес Маргариты Фримель-Феррер. «Ты удивлен? — спрашивает он. — Ничего не поделаешь! Оставь мой адрес в Иностранном отделе с просьбой передать его Маргарите. Приложи оплаченный конверт с почтовой маркой». Полагаю, что его отец, искушенный в таких делах, мог незамедлительно выхлопотать в гестапо разрешение на свидание. Встречи заключенных с родственниками происходили в присутствии тюремного надзирателя и гестаповца, как правило, на первом этаже тюрьмы, слева от входа, в так называемом закутке. От посетителей арестанта отделяли жалюзи, время свидания было ограничено тремя минутами. Об открытом разговоре в таких условиях нечего было и думать. В случае с Руди Фримелем я, правда, допускаю, что он мог общаться со своим отцом намного дольше указанного времени. Или они могли обмениваться посланиями через молодцеватого тюремного надзирателя, игравшего роль курьера. Вторая открытка Руди, от 10 ноября, адресованная отцу, позволяет, во всяком случае, сделать вывод, что они подробно обсуждали его положение. У Клеменса Фримеля явно запросили из Парижа дополнительные сведения для поисков Маргариты Фримель-Феррер, поскольку Руди пишет, он надеется, что отец уже получил затребованные данные и переправил их. «Ты не представляешь, какой чудовищный груз ты бы снял с моей души, если бы тебе удалось установить местопребывание Маргариты». Далее он ссылается на поданное им «обговоренное прошение», на которое, «однако, до сих пор не получил никакого ответа… Буду еще просить разрешения как можно дольше пробыть здесь, в Вене, если прошение будет отклонено». Никто из нас, сидя в гестаповской тюрьме, не подавал никаких прошений. Их бы и не приняли. Думаю, что свое намерение жениться на испанке Руди с самого начала отстаивал с таким рвением, что мог произвести впечатление даже на гестаповцев. Потому что ни о чем другом не могла идти речь в его прошении, кроме как о ходатайстве о женитьбе. То, что решение не было принято, к делу не относится.
Читать дальше

![Дарья Верясова - Муляка [две повести]](/books/26920/darya-veryasova-mulyaka-dve-povesti-thumb.webp)
![Илья Кочергин - Помощник китайца. Я внук твой [две повести]](/books/31550/ilya-kochergin-pomochnik-kitajca-ya-vnuk-tvoj-dve-p-thumb.webp)