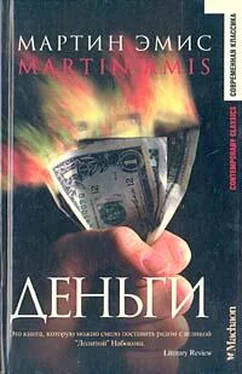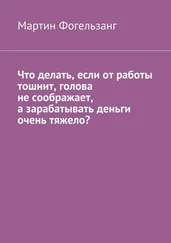Я поставил поднос на кровать и задернул занавески. Последнее время я стал класть в чай немного сахара. В жизни каждый день требует пунктуальных поблажек, уюта и сладости. Вылезая из-под теплого одеяла, моя душа ищет в утреннем вареве призрак пряника. Потом, на улице (и ни в коем случае не раньше), я закрепляю ощущение огоньком сигареты.
Проехать по всей длине плосковерхой Восьмой авеню, мимо подземных переходов и табличек «закрыто», — это все равно что посмотреть инопланетный документальный фильм под названием «Земляшка». Картина довольно слабенькая, убого поставлена, грубо смонтирована, ни тебе формальных изысков, ни общей идеи, а неинтересному уделено ровно столько же внимания, сколько интересному. Приходится выбирать. Приходится все время выбирать.
Я вихрем пролетел вращающуюся дверь «Эшбери», миновал улыбающихся швейцаров и сразу рванул к лестнице. Четырнадцать пролетов, четырнадцать квадратных окон с двойными рамами, и все бегом. Я ворвался в номер, откинул ключ — и спекся. Со скрежетом клокоча на каждом вдохе, бессильно уронив руки и ссутулив плечи, я обвел взглядом комнату, все ее угрожающие углы, и залился слезами. Может, я никогда не хотел этого достаточно сильно. Черт, никогда же не хотел. И в голову не приходило хотеть.
Потом я зашел в ванную, проверить, что скажет зеркало. Господи, мои глаза... как давно им не приходилось плакать. Отвыкли, утратили форму. Можно подумать, они исторгали не слезы, а кровь, всю кровь, что была в моих жилах.
Наверно, пора вам признаться. Можно попросить... а, привет, милочка. Ух ты, ну да, точно. Ладошкой по холке... а-а, хорошо. Очень хорошо, лучше и лучше, и действительно помогает. Пожалуйста, не останавливайся. Не уходи.
Наверно, пора вам признаться насчет Мартины, меня и... Наверно, пора. Братишка, плесни, пожалуйста, чуток. Очень надо. И руку на плечо, да, вот так. Сопереживание. Сочувствие. Надеюсь, вы никуда не торопитесь?
В общем-то, я с самого начала знал, что на сплошной танец живота и рахат-лукум рассчитывать не приходится. Я понимал, что все будет серьезно. Ей нравится извиваться и медлить, нащупать точку, а потом, оптимально настроившись, сцепившись, как боксеры в клинче, танцевать горизонтальный танец, с энтузиазмом, с ловкостью, с... с чувством. Она предпочитает прямоту. Можно так, можно эдак, но главное — с чувством, с теплотой.
По крайней мере, таковы мои умозаключения. Не более чем ориентировочные, согласен. Мы делим постель... сколько? — десятую ночь подряд. И мне еще только предстоит, я до сих пор не, у меня никак не... получается. Именно. Вот вы за меня и сказали.
Это очень тяжело. Очень утомительно. Сто потов сойдет, пока встанет. Стояк — он и в Африке стояк.
Горе мне, горе. Позор джунглям. Вот ведь отвратный денек. Просто обхохочешься. Жизнь — такая забавница, душа общества. Ни секунды на месте не усидит. Разумеется, я слышал этот анекдот и раньше. Анекдот с воттакенной бородой. И раньше, конечно, бывало, что техника отказывала, или метеообстановка чересчур сложная, или погода нелетная, или сплошные помехи в эфире, заносы на трассе, листопад, гололед. Но я ни разу еще не слышал этого анекдота в полном объеме, в многосерийном варианте. Мой прибор вставал на Лесбию Беузолейль. Мой прибор вставал на Селину Стрит и на чванную шлюху с Третьей авеню. Мой старый добрый прибор имел дело с королевами красоты и страхолюдинами, с такими, сякими и разэтакими — короче, мог похвастать огромным опытом. А вот на Мартину Твен не встает, хотя ты тресни. Можно подумать, она недостаточно хороша для моего прибора, вот он и кочевряжится.
— Не переживай, — сказала она вчера ночью в двадцатый раз; я уже растекся по кровати, как слезинка весом в центнер, ни одного живого места, сплошная соляная глыба.
— Да ну? — выдавил я хрипло, неразборчиво. Тогда она обняла меня и своим горячим шепотом сказала все, что было в человеческих силах сказать. — Да ну? — повторил я. Кажется, у меня и животное начало дает сбой. Даже как животное я в полном ауте. — Черт побери, — прохрипел я, — на хрена я тебе такой сдался?
«Господа, книги выставлены на продажу. Здесь их не читают. Читают не здесь. Возьмите домой и ознакомьтесь».
Так что я стою в порноцентре, ищу улики. Листаю глянцевый, со свежим типографским запахом, видеокаталог. Бабуси и внучки, испражнения, каменный мешок и кандалы, собаки и свиньи. О мир, о деньги. Наверно, есть люди, которым все это нравится. Спрос и предложение, рыночные силы. Тут, на Земле, скопился весьма разношерстный сброд, ни одной совпадающей челюсти или отпечатков пальцев. Кого тут только ни встретишь. Хлам и срам, причем ни капли стыда, ну ни капельки. Все полны решимости следовать своей натуре, и это неизбежно. Баб достало сидеть под нами, мужиками. Голубым и розовым надоело смущаться перед натуралами. У черных вот уже где сидит вся эта белая власть. Уличные преступники предпочли бы заниматься своим делом без вмешательства полиции, которая все время пытается, подумать только, арестовать их и засадить в тюрягу, ну это уж вообще. Нынче даже педофил — адепт насилия в столь чистом виде, ему, видишь ли, годятся только дети, — осмеливается показать свое замаскированное лицо; он тоже хочет немного уважения. Включите свет. Кому какое дело. Я обвожу взглядом этот магазин для остро нуждающихся: журнальные стенды, отдельные кабины, пролетариат при метле или дубинке, навьюченный деньгами. Я чувствую свою уникальность, нервничаю и в любой момент готов сорваться с резьбы — но остальные-то забежали отовариться в обеденный перерыв, быстренько удовлетворить свои запросы. То, что мне нужно, — да я терпеть этого не могу. То, что мне нужно, давным-давно сделало ручкой тому, что мне нравится, и разошлись они, как в море корабли, и я грустно, беспомощно смотрю вслед. Я стыжусь и горжусь. Стыжусь своей натуры. Тоже мне, нашел чего стыдиться.
Читать дальше