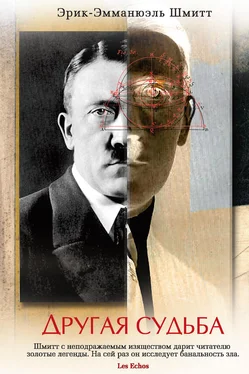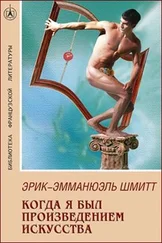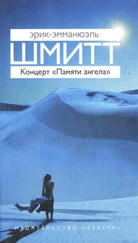«Люди гостиной», те, что оставались в общежитии на день, как Гитлер и Нойманн, считали себя местной элитой, чем-то вроде интеллигенции в зыбком мирке разочарованных и напуганных мещан.
Растение в теплице дает цветы – так и к Гитлеру вернулись амбиции. Он больше не видел своего будущего в одной только живописи ( Это искусство умерло, мой друг, с появлением фотографии ) и подумывал об архитектуре. Так он оправдывал в собственных глазах бесконечные копии памятников и свою неспособность нарисовать лицо. Когда Нойманн напоминал ему, что архитектор должен иметь обширные познания в математике, Гитлер пожимал плечами и заявлял как нечто само собой разумеющееся:
– Конечно же я займусь математикой. Конечно.
Однако ни разу не открыл учебника по арифметике или алгебре. Ему, как всегда, хватало идеи.
В нем еще бушевали чувства, испытанные на «Риенци»; искушение политикой усиливалось от ежедневного чтения газет; кумиром Гитлера был Шёнерер. [6]Еще в отрочестве он опирался на Шёнерера, ссорясь с отцом. Шёнерер был австрийцем, влюбленным в Германию; не приемля всего не немецкого, он ратовал за воссоединение Австрии с рейхом; в тринадцать лет Гитлер любил повторять эту критику австрийского государства, чтобы позлить отца, всю жизнь ему служившего. В дальнейшем, столкнувшись с многочисленными народами, смешавшимися в космополитической Вене, он любил успокаивать себя, думая, вслед за Шёнерером, что, будучи немцем, он выше всех. Он симпатизировал и его антикатолицизму, антилиберализму, антисоциализму, короче говоря, его противостоянию всем малознакомым доктринам, в которых Гитлер не находил своего места. Одна деталь, совсем незначительная и почти неприличная, сделала Гитлера ярым сторонником Шёнерера: идеолог утверждал, что следует оставаться холостяком до двадцати пяти лет, чтобы сохранить здоровье и все физические и умственные силы для германской расы. Его принципы гигиены привели в восторг Гитлера, неосознанно применявшего их на практике; он нашел научное и моральное оправдание своему поведению; целомудрие Гитлера из проблемы стало добродетелью, как и его нелюбовь к мясу и алкоголю, в которых и Шёнерер подозревал разврат. Шёнерер оправдывал его. Шёнерер был его Риенци.
– Почему же ты не вступишь в его движение? – спрашивал иногда Ханиш, на которого изливался этот энтузиазм.
– Да я вступлю… вступлю… – уклончиво отвечал Гитлер.
Почему он сторонился общественной деятельности? Потому что инстинктивно чувствовал себя неспособным примкнуть к какой бы то ни было группе. Это было как учеба – деятельность осознанная, реальная и к чему-то обязывающая. Гитлер предпочитал мечтать.
Кроме того, его возмущал антисемитизм Шёнерера. Антисемитизм вообще был одной из его главных политических проблем: почему все, кем он безумно восхищался, были антисемитами? Шопенгауэр, Ницше, Вагнер, Шёнерер… Все они, при прекрасных и благородных суждениях, опускались до гнусной ненависти. Это сбивало Гитлера с толку. Он не видел связи между антисемитизмом Ницше и его духовным наследием. То же и с Вагнером… Как гении могли так низко пасть? Он прощал им эту ненависть, как отрыжку, но удивлялся, что она так часто встречается.
Иногда он участвовал в политических спорах, ведущихся в гостиной. Поначалу он воздерживался, чтобы не разрушать образа, который создал молчанием и уединением, держась на расстоянии от всех и никого не подпуская близко. Но порой его сдержанность давала трещину, он не мог не вмешиваться, слыша глупости; тогда он ломал карандаш о стол, вскакивал и бушевал, раскачиваясь из стороны в сторону на волнах своего возмущения. Слова шли трудно, рубленые, рявкающие, откровенно непарламентские.
Ответом становилось неловкое молчание. Никто с ним не спорил. Когда он умолкал, наступала долгая пауза, потом, выждав приличное время, все как ни в чем не бывало продолжали болтать на безобидные темы. Гитлер мыслил достаточно здраво, чтобы понять: даром красноречия он не обладает. Пламя согревало лишь его самого. Его не слушали – только терпели. Ждали, когда минует кризис. Ему давали понять: мы на тебя не в обиде – можно ли пенять одноногому за хромоту, – но лучше помолчи. В последний раз, когда он подобным образом вспылил – защищая своих друзей-евреев из общежития и еврейских лавочников, покупавших у него картины, – удрученность во взглядах этих господ была такой, как будто он прилюдно обделался, и он сел, твердо пообещав себе никогда больше не выступать на публике. В этот день Гитлер мысленно навсегда отказался от политики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу