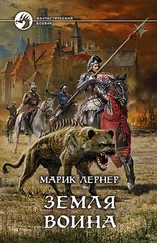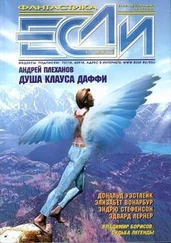От яркого солнца у него немного прояснилось в голове, и когда они сели в такси, его представление о ходе времени уже стабилизировалось, но его по-прежнему так заботливо окутывала светящаяся медикаментозная теплота, что внезапные рывки и остановки машины, с трудом продвигающейся на восток, он воспринимал как мягкое покачивание. Боли он не испытывал, чуточку неприятным было только онемение языка, напоминавшее о ранках, заложенных марлей. А Лиза – она что, все это время говорила? Когда выбрались на Эф-Ди-Ар-драйв, он повернулся к ней, и она, поднявшая руки, чтобы стянуть русые волосы в конский хвост, была красива; он смотрел, как она дышит, как поднимается и опускается ее грудь, увидел на ее прекрасной ключице тонкое золотое ожерелье, которое она всегда носила. Потом – без всякого перехода – перед глазами возникла панорама Нижнего Манхэттена, здания по мере движения такси становились все больше, он видел их все отчетливей, хотя езды не чувствовал. А потом вдруг почувствовал езду, очень быструю и немыслимо гладкую, впереди был Бруклинский мост, его тросы сверкали на солнце. Лиза обругала маленький сенсорный телевизор в такси, не хотевший выключаться, он протянул руку, чтобы ей помочь, и соприкосновение со стеклом экрана ощутил как чудо, как встречу с затвердевшим, осязаемым воздухом. А потом он приглаживал ей волосы, а она смеялась из-за этого необычного проявления нежности: за шесть лет дружбы он делал так всего несколько раз. Потом опять городской вид, и ему подумалось – точно открылось:
Я это забуду. Это самая красивая панорама города, какую я видел, у меня никогда не было таких переживаний скорости и таких прикосновений, я никогда не чувствовал такой близости с Лизой – и я все это забуду; медикаменты сотрут всякую память. Да, этот вид, эти переживания, окруженные светящейся аурой неминуемого исчезновения, – поистине самые-самые. Он страстно хотел рассказать Лизе о происходящем, но не мог, потому что онемение языка не прошло; он не мог даже попросить ее напомнить ему потом то, что сотрут медикаменты. Когда они въехали на мост и он увидел, как играет на воде осеннее солнце, он, хотя смутно сознавал, что Лиза будет дразнить его из-за этого позже, что он смешон, ощутил слезы на глазах. То, что у него не сохранится об увиденном никаких воспоминаний, что он не сможет оставить о нем письменный след ни на каком языке, придавало пережитому особую полноту, на короткое время делало его равным себе, и мысль, что этому ощущению присутствия придает остроту грядущее изглаживание, трогала его до глубины души. А потом он оказался в своей квартире; Лиза дала ему пару таблеток, уложила его в постель и ушла.
Он проснулся около полуночи и почувствовал себя самим собой. Во рту немного побаливало. Он справил малую нужду, поменял марлю, пропитанную потемневшей кровью, и запил еще одну таблетку обезболивающего полным стаканом воды. Послал одну эсэмэску Лизе, другую Джошу, спросившему, как все прошло. Улыбнулся, подумав, как много времени потратил на мысли об удалении; оказалось – пустяки. Посмотрел на ноутбуке серию из «Прослушки» и уснул.
Наутро он встал поздно и, выпив кофе (со льдом, чтобы не помешать заживлению), понял: я помню все – езду, городской вид, то, как гладил Лизу по голове, непередаваемую красоту, которой суждено было исчезнуть. Помню – а значит, ничего этого не было.
В Нью-Йоркско-Пресвитерианскую больницу я вошел в холодном поту, физически ощущая растворенные в нем соли и мочевину. Я месяц с лишним – с тех самых пор, как была назначена дата, – беспокоился из-за этой процедуры, беспокоился очень сильно и вслух, так что Эндрюс предложил мне принять таблетку; в метро по пути на Верхний Манхэттен я то и дело притрагивался к куртке, удостоверяясь, что таблетка лежит во внутреннем кармане.
Передо мной раздвинулись стеклянные двери, и, пройдя через атриум мимо кофейного киоска к лифтам, я поднялся на седьмой этаж. Приемная, где я оказался, была необычно роскошна, больше похожа на кабинет топ-менеджера, чем на медицинское учреждение. Абстрактные репродукции на стене (бледные решетки разных цветов, перепевы Агнес Мартин [54]) играли всего лишь болеутоляющую роль, но рамы были музейного качества. Непринужденная улыбка сотрудницы, к которой я обратился, показалась мне слегка неуместной – улыбкой продавщицы в дорогом ювелирном магазине, куда я пришел бы покупать обручальное кольцо; в этой улыбке не было ничего медицинского. Я назвал ей себя, она ввела имя и фамилию в компьютер, распечатала листок и дала мне, чтобы я поднялся с ним на следующий этаж: «Там для вас все сделают».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу