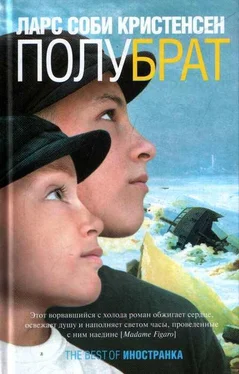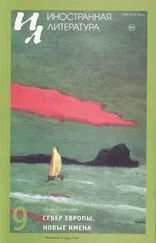Болетта вызывает врача. Меня отправляют в школу на такси, такая у меня мама, вдовствуя, она платит за такси, чтобы я не опоздал в школу. Хотя опоздать я всё равно сумел. Попросил шофёра трижды медленно проехать вокруг кладбища крематория Вестре, где в дальнем углу тёмного от зелени кладбища кто-то орудовал лопатой. За то, что я опоздал, мне, кстати, ничего не было, и меня не вызывали отвечать, ведь я потерял отца. Его смерть принеслa мне освобождение, но вышло всё не так, как я мечтал, когда сочинял себе бесчисленные страдания и несчастья, которые обеспечат мне всеобщую жалость и вознесут меня на трон, откуда я единолично стану управлять сочувствием всего мира. Теперь мне казалось, что в каждом лице я скорее вижу усмешку, что они кусают губы, сдерживая смех, потому что более нелепой смерти, чем у Арнольда Нильсена, нельзя себе придумать: чтоб воскресным днём посреди «Бишлета» получить в лоб диском. В глубине своей души и за моей спиной они смеялись, заставляя меня вспоминать список, обнаружившийся в отцовом кармане, этот смех тоже стоит занести в опись, я бы назвал его постыдным — смех, который когда-нибудь развернётся на языке того, кто так смеётся, вопьётся ему в горло и медленно, но неумолимо задушит позорника. Так примерно текли мои мысли, когда я сидел за партой у окна, амнистированный и отпущенный в одиночество, неприкасаемый, как прокажённый, покрытый струпьями смехотворного горя. Вот бы мы с Педером и Вивиан учились в одном классе, думал я в такие минуты, я бы послал им записочку с двумя лишь словами — постыдный смех, и они с ходу поняли бы, что я имею в виду. Но Педер учился в другой школе, за городом, и каждое утро тащился туда на автобусе или «воксхолле», если папе вдруг удавалось уговорить его завестись, а Вивиан занималась частным образом, как она говорила, может, мама занималась с ней, короче говоря, мы никогда не учились в одной школе, так было, пожалуй, лучше всего, потому мы и сделались неразлейвода, скучали друг по другу, когда не виделись, а так бы школьная дедовщина нарушила мир наших отношений, мы бы разругались из-за какой-нибудь физры, музыки или сочинения. Мы встречались вне школы, вне расписания, на лично нашей большой перемене, то ли под красным буком, то ли в зябком зале кино, мы втроём, Вивиан, Барнум и Педер, без всех, вернее, сами по себе, и у нас были свои тайные места, куда им, всем, вход заказан. — Барнум, тебе опять нехорошо? — Это спрашивает Шкелета, голос её тревожно морщинится. Она устала от меня и всего, со мной связанного. Я медленно поворачиваю голову, все притихли. Но где-то далеко я слышу вой Монтгомери. Война продолжается. День «Д» у нас каждый день. Шкелета стоит скрестив руки, за ней гладко-чёрная доска. У нас урок религии. — Обычная лепра, — отвечаю я. Поднимаюсь и ухожу. Шкелета думает сперва остановить меня, она сердита, она считает, что дембель мой затянулся излишне, сколько можно, вдовы и те носят траур всего год, но я держусь за него истово, это моя свобода и моё одиночество, хотя я понимаю, что вечно так продолжаться не может. Я ухожу не оглянувшись. И весь класс исходит завистью ко мне, к подуревшему с горя Барнуму, такого случая ради они тоже не прочь осиротеть.
Когда я вернулся домой, врач уже ушёл. Мама сидела в гостиной, я должен был заглянуть к ней. Нашёл я её в нехорошем состоянии. Глаза бегали туда-сюда без смысла. Она насвистывала к тому же. Плохой знак. Наконец я заговорил первым: — Мама, что с Фредом? — Она всё свистела. — Мам, в чём дело? Фреду плохо? — Внезапно мама расцвела в улыбке и перестала свистеть. — Доктор оказался такой душкой, — сообщила она. — Правда? — Действительно, очень милый. Он сказал, что если Фред ударился об пол, значит, он спотыкался и падал раз двадцать подряд, не меньше, а потом ещё пол сам ударил его сзади. — Я потупился. Мама вздохнула. — Барнум, почему ты врёшь? — Не знаю, — шепнул я. Мама притянула меня к себе: — Ты не знаешь, почему ты врёшь? — Я быстро замотал головой: — Я не знаю, что случилось. — Мама снова глубоко вздохнула. — На Фреда напали, но он, естественно, не признаётся кто. — Она откинулась на спинку дивана и стала похожа на Болетту. Вздохи участились. — Да! Никто ничего мне не рассказывает! Врач сказал, мы должны обратиться в полицию, заявить о нападении на Фреда — а как, если он молчит? — Мама закрыла лицо руками. Всё это было выше её сил. И она сказала всегда ужасавшую меня фразу, которую я мечтал никогда от неё не слышать. В этих словах, которые она иногда повторяла под соответствующее настроение, было что-то, от чего я чувствовал себя жутко беспомощным, их звучание, обыденность их жестокости лишали меня сна на долгие недели, я понимал их как крайнюю форму отвержения, как наипоследнюю угрозу. Она сказала, на выдохе: — Барнум, что мне с вами делать? — Не говори так, — прошептал я. — Пожалуйста. — Мама взяла меня за руку. — Иди к своему брату и попробуй заставить его признаться. — Признаться? Это же его избили! — Она отпустила мою руку, я уже шёл в нашу комнату, мне было приятнее посидеть с Фредом, чем слушать её. Но она вдруг вскочила и взмахнула руками. Силы вновь покинули её. Их не хватало, похоже, ни на что. — Нет! — закричала она. — Я не желаю знать, кто надругался над моим сыном! Я вообще ничего не хочу знать! — И она завела эту шарманку, стала разговаривать сама с собой и для себя, что она одна ничего не знает, ей ничего не говорят, держат её за дурочку, мы здесь все чужие и она не знает и себя тоже, одинокая вдова, слишком молодая, чтобы провести в трауре остаток жизни, но уже старая, чтоб можно было начать всё с чистого листа. — Несчастный Фред! — вдруг выкрикивает она. — Несчастный Фред! — Я тихо вышел, не замеченный ею, и подсел к Фреду. Он лежал на спине и был похож на мумию. Мне нечаянно вспомнилась фотография Ленина из «Кто. Что. Где». Лёжа так, Фред немного напоминал Ленина, как его сумел снять фотограф — забальзамированное тело в мавзолее на Красной площади. Я осторожно дотронулся до толстой повязки у него на голове. — Теперь нашло на маму, — прошептал я. К слову сказать, на той фотографии рядом с Лениным лежал Сталин, он тоже был запечатлён на фотографии, они лежали рядом, как два закадычных дружка, Сталин в форме, на френче блестят пуговицы, и так им придётся лежать вечно, мне не нравилась эта фотография, но я не мог отвязаться от неё, потому что фотографу словно бы удалось поймать на плёнку саму смерть — проявленная смерть, и лица обоих светятся приглушённым матовым светом, наверно, оттого, что мозг удалён, его советские врачи вытащили через нос и у Ленина, и у Сталина острыми крючками, ровно как делали египтяне, если их фараону предстояло проспать три тысячи лет. Я написал об этом сочинение. — Сотрясение мозга, — ответил Фред. Я нагнулся поближе. — У кого? У мамы? — Фред вздыхает: — Нет. У меня. Опять дуришь? — Очень больно? — Он не отвечает, молчит. Потом просит: — Принеси зеркало. — Зачем? — Неси давай. — Я выскальзываю из комнаты и беру зеркало из ванной. Явилась домой Болетта. Сидит теперь у мамы. Всё правильно. Мы сидим друг у друга, каждый сам по себе. Я быстренько пробираюсь назад в комнату. — Подержи зеркало, — мямлит Фред. — Где? — Надо мной, Барнум. Я хочу увидеть своё лицо. — Я держу зеркало, как он велел, у самого лица, так что оно запотевает от тяжёлого дыхания. — Жив ты, жив, — говорю я. — Или прикажешь воткнуть тебе в сердце шляпную иголку? У Болетты есть наверняка. — Фред пытается усмехнуться. — Лучше уж поставь на меня стакан спирта, — шепчет он. Но когда я убираю зеркало, Фред отворачивается, и я вижу, он плачет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу