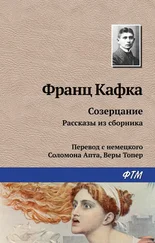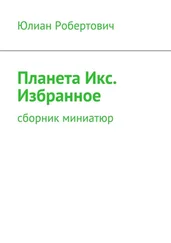Мы стоим у обжигающе холодных перил, под нами на песке со следами лошадиных копыт, велосипедных шин и свежими отпечатками подошв прижавшиеся к дамбе пляжные кабинки.
Она идет по пирсу, не падая больше на колени, уверенным и широким шагом, напоминая чем-то бегуна на ходулях. Она движется по волнистой спине ящера, вдоль его покрытых мхом боков. Пирс становится глаже, а она идет все медленней. Прямо в море. Ее силуэт уже едва различим. Под нами, скрытые пляжными кабинками, гогочут трое мужчин. Женщина — к которой мы чуть-чуть приблизились, хотя Тедди Мартенс и клялся, что не вылезет из машины из-за этой «суки в блестках», а теперь бормочет заклинания, хотя раньше сам призывал к молчанию, — все еще стоит на пирсе, пока запоздалый рыбачий катер, развернувшись к пристани, ощупывает прожектором скамейки на пляже. Когда я надел очки, она сделала несколько шагов назад, но лицо ее было по-прежнему обращено к катеру. Придут к ней на помощь? Ее юбки полощутся вокруг широко расставленных ног. Недоступная танцам и драмам портового города, она отдается насилию воды. И по мере того, как текучая, настойчивая, отвратительно мягкая сила проникает в женщину, нас завораживает серый перекат морских волн; ее бесстыдная похотливость, когда она, обнажив колени и ляжки, стала поглаживать себя по бедрам, ее обреченные неуклюжие шаги по гладким плитам пирса — все, все забыли мы, мужланы, в тот самый миг.
Мы стоим рядом, Тедди Мартенс и я. В рокоте, разрывающем нас на части, толчками катящем кровь, сушащем язык. И вдруг она начинает хохотать, стоя на спине пирса-кашалота, задремавшего в водовороте, и волны, которые стремятся дотянуться до нас, приносят нам ее громкий смех. Пот застилает мне очки. Торговец автомобилями говорит, что черт дернул его вылезти из машины. «Сейчас она бросится в море, смотри, смотри, ну мы и влипли».
Я думаю о нижнем белье, которое не менял уже целую неделю, о том, что у меня грязные ноги; когда спустя несколько мгновений я бреду из моря, держа ее на руках, сбежавшиеся обитатели дамбы (Тедди Мартенс визжит и проклинает все на свете), готовые оказать помощь в переодевании спасителя и спасенной, бесспорно, увидят это в первую очередь. Женщина смеется. И у нее, и у нас головокружение от прилива. Наши ноги лишаются опоры. Дамба, покрытая шестиугольными плитами для катания на роликах, гудит и пытается выгнуться спиной дикого зверя. За парапетом, возле пляжных будок, воркуют трое мужчин. Женщина поднимает руку, поднимает ее к птицам, машет, разгоняя невидимых мух. Она обороняется от зверей.
Потому что Тедди Мартенс хотел поскорее уйти оттуда, а я не хотел, чтобы он исчез с воспоминанием обо мне как о пьяном слушателе в гасящем звуки салоне, слушателе-соучастнике в его «бьюике», — мне известны и другие причины, почему я дал ему пинка, но какие?
Корнейл хочет, чтобы я был как можно более точен, факты, говорит он, ничего, кроме фактов, — и вот факт: я даю ему пинка и попадаю в лодыжку, прямо над башмаком с серебряной пряжкой. Сквозь серые стекла очков я вижу, что Тедди Мартенс колеблется — кричать ему или ругаться — и наконец оскаливается, обнажая зубы до самых десен. Потом закрывает рот. Он пойман на месте преступления. Виновен. И теперь он понесет наказание. Там, где маска впивается в его шею, образуются жирные складки. Он ищет мои глаза.
— Это что, так нынче празднуют праздник? — говорит он. — И ради этого я потащился с тобой на бал? И это благодарность за то, что я весь вечер угощал тебя шампанским?
Он прыгает на одной ноге.
Один за другим мужчины поднимаются с песка и молча идут к лестницам, ведущим на дамбу.
— Не стоило тебе этого делать, дружище, — говорит Тедди Мартенс.
Я возвращаюсь к себе в отель. Больше мне здесь делать нечего. Пирс за моей спиной, о который бьются головы волн, безлюден.
В своей комнате, опустошенный, обсушенный сердобольными обитателями дамбы, оглушенный восторгами, напоенный горячим грогом, наулыбавшийся репортерам, учествованный районным комитетом, я дал ночи идти своим чередом. У себя в комнате я сложил брюки — без единой морщинки, без единого пятнышка — и убрал их под матрас. Глаза, натертые маской, все еще немного слезились. Окно в моей комнате было открыто, и меня вылизывали лучи маяка, позже мою комнату наполнил туман, смешанный с запахом металла и женщин.
— Не курите здесь, — сказала Элизабет и пощекотала мою ладонь. Лето, полное голубей и шума тяжелых моторов на эстакаде, далеко от нас. Запах сырого дерева и ее запах, запах юной девушки. И вонь от клея в речке, лениво ползущей позади штабелей досок на складе торговой фирмы «Хакебейн» и собирающей разную дрянь со всего города. Резкий дух обработанных стволов и балок оседал у меня на веках.
Читать дальше