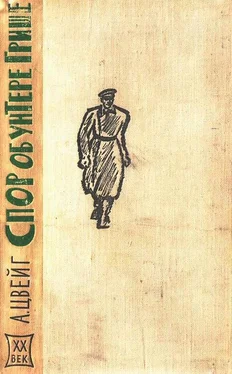Питая непреодолимое отвращение к насыщенной раболепием и враждебностью атмосфере ротной канцелярии, он нес там, как и все нестроевые, тяжелую и опасную полевую службу и был очень близок к полному умственному и нервному расстройству.
Благодаря вмешательству лиц, знавших его по литературной деятельности и сочувствовавших ему, этот молодой человек, уже небезызвестный писатель во время пребывания дивизии на западном фронте был, с помощью обер-лейтенанта Винфрида, извлечен из нестроевого батальона.
Теперь он спасен и находится у доктора Познанского, по-отечески его опекающего, и начинает наконец отвыкать от прежнего гнетущего страха перед всем, что связано с начальством: перед пуговицами, нашивками, погонами. Каждой свободной минутой он пользуется, чтобы отоспаться.
Его прекрасный, юношеский свежий роман и большая статья о магии и закате мира произвели впечатление еще до войны и с тех пор причислялись к наиболее ярким документам, характеризующим его поколение. Две драмы, не пропущенные цензурой, ходили по рукам в рукописях. В настоящее время он сидит над делами, подсудными военному суду. О чувстве к нему Софи он не догадывается.
Свет в лазаретную палату — тридцать железных кроватей в два ряда — проникает справа через окно, слева — через стеклянную дверь. Для прохода между кроватями остается расстояние чуть пошире коридора.
Сестра Софи в белом халате и в чепце, обрамляющем ее одухотворенное лицо, измеряет вечернюю температуру. Воздух пропитан ядовитыми запахами, исходящими от больных тифом босняков, но она как бы не замечает этого. Терпеливо и привычно — двухлетняя работа выработала эту привычку — она ставит термометр, смотрит температуру, отмечает ее на табличке у изголовья кровати, дезинфицирует градусник, переходит к следующему больному. Ртуть, этот дефицитный товар, уже стали заменять спиртом.
Как только сестра Барб поднялась по лестнице, она спрятала глубоко в тайные уголки души чувство счастья, заполнявшего ее, помылась, переоделась и, готовая к исполнению служебных обязанностей, вошла в палату, чтобы помочь приятельнице.
— Добрый день! — они не обменялись рукопожатием, так как уже дезинфицировали руки. Чем больший беспорядок и равнодушие к уходу за больными царили вокруг, чем дешевле расценивалась, вследствие огромных потерь, человеческая жизнь, тем внимательней и участливей к больным старались быть обе подруги. Правда, и в их лексикон проникли, помимо их воли, такие выражения, как, например, «две выписки», вместо «двое умерших». Слишком уж огрубели люди под бичом смерти, ставшей повседневным явлением. Но пока пациенты были живы, обе девушки ласково и самоотверженно посвящали себя им.
— Сегодня ночью освободятся кровати одиннадцатая и восемнадцатая, — сказала Софи, обращаясь к Барб. — Лахман сообщил о двух предстоящих выписках. Да оно и лучше!
С кроватей доносились сопение, хрипы, тихий бред, стоны метавшихся в жару, свистящее тяжелое дыхание умирающих. Им впрыснули морфий, чем одновременно избавили их от предсмертных страданий и не дали излиться рвавшимся из души последним словам, обращенным к родине, к близким, к мучителям.
Ваты уже давно не было, ее заменяли тюки из белой целлюлозы. Люди уверили себя в том, что целлюлоза обладает таким же свойством, как вата. Через открытые окна с зелеными марлевыми сетками, защищавшими от мух, свежий после дождя вечерний воздух обильно проникал в эту обитель смерти.
Старшая сестра просунула голову в полуоткрытую дверь, кивнула обеим сестрам — она хотела только проверить, вернулась ли сестра Барб точно к назначенному времени, — и закрыла дверь с матовыми стеклами.
— У тебя ведь сегодня свободный вечер, — сказала Барб.
— Я останусь дома.
— Почему? — спросила Барб. — Есть новости, послушай-ка. — И она рассказала историю приговоренного к смерти русского. — Сегодня вечером Бертин попытается установить телефонную связь с лагерем для военнопленных, откуда этот парень бежал. Это увлекательно, как роман. Было бы хорошо, если бы ты этой ночью принесла мне оттуда новые вести. Ты бы помогла мне скоротать ночное дежурство.
Софи поняла намек приятельницы и улыбнулась ей. Ее серьезное нежное лицо чудесно преобразилось от вспышки лукавой веселости.
— Но если он меня и знать не хочет?.. — сказала она вместо ответа.
Барб взглянула на нее черными, как ежевика, глазами.
— Он просто робеет перед тобой, дурочка. Ведь ты — начальство. Когда ты появляешься в своей форменной одежде, он на тебя и глаз поднять не смеет. Это же ясно как дважды два четыре.
Читать дальше