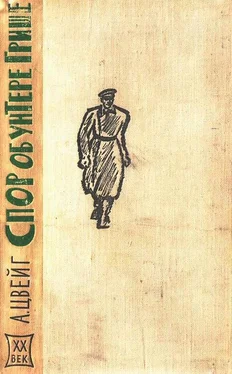И в этот момент, когда в комнате еще царит одобрительное молчание, один из солдат внезапно толкает другого локтем в бок.
— Слышишь? Что он, с ума спятил? Да он смеется!
Из камеры Гриши в самом деле явственно доносится тихий смех.
— Что вы скажете, он смеется!
Пехотинец Герман Захт вскакивает со скамьи и бежит к двери.
— Вы только послушайте! Он и в самом деле смеется!
Из камеры смертника приглушенно прорывается сквозь деревянную стенку отчаянный смех.
«Рехнулся, очевидно, готов парень!» — говорят про себя солдаты, неподвижно застыв и ощущая весь ужас и невероятность случившегося. Вдруг Гриша опять начинает колотить в дверь камеры.
— Ребята! — вопит он, — товарищи!
«А может быть, он еще не совсем спятил», — думает ефрейтор и пробирается к темному проходу.
— Замолчи, русский! Перестань смеяться! Не полагается! Что тебе нужно?
Но Гриша кричит сквозь деревянную дверь, плотно прижимая губы к пазам и щелям:
— Лейтенанта сюда! Позови лейтенанта! Если хочешь спасти душу, лейтенанта сюда!
Сам начальник караула соскакивает с нар и бежит к двери, но спохватывается и отдает приказание. Солдат пустился во всю прыть, рысью, так что только пятки засверкали.
В камере, на нарах, сложив руки на коленях, обливаясь потом, весь посерев, сидит Гриша с одной только мыслью: избавиться от Бьюшева, от Бьюшева, которого, видно, приговорили к смерти, которого они второй раз хотят застрелить. А он, Гриша, он ведь вовсе не Бьюшев. Немедленно избавиться от Бьюшева и стать самим собою! Это не терпит отлагательства ни на секунду. Он должен опять стать Григорием Ильичом Папроткиным, беглым военнопленным, номер 173, второй роты военнопленных при лесопильном лагере у Наваришинска!
Судьба, значит, противится, чтобы он, Гриша, ходил в чужом обличье. Что-то требует, чтобы Бьюшев понес наказание за свою вину. У каждого своя доля! Но ведь не его же, Гришу, приговорили к смерти. Скорей доложить об этом суду. Расстрелять? Кого? Его, Гришу?
Внезапно перед его взором предстала рысь с черной мордой и раскосыми глазами. Она подбиралась к нему по снегу, как дьявол, с ушами, на которых болтались кисточки, с белыми зубами, когтистыми лапами и высоким, как горб, крупом: это зверь, убежавший от его смеха. Смех отгоняет смерть. И теперь пред ним этот проклятый зверь, Бьюшев, которому он чуть было не дал съесть себя. Себя, унтер-офицера Григория Папроткина. Нет, убирайся прочь! И, полуоблегченно, полусудорожно, он хлопает в ладоши, как тогда, в лесу, и смеется. Ведь это вовсе не он! Он-то спасен! Ох-ха-ха! А теперь надо поторапливаться! Ха-ха-ха!
Вот почему стал хохотать заключенный Бьюшев.
Глава пятая. Молодость прекрасна
Сестра Барб оставила свой широкий халат сиделки в передней деревянного домика, который обер-лейтенант Винфрид выбрал для себя из десятков похожих друг на друга — в большинстве случаев без окон и дверей — домиков на восточной окраине города. В несколько дней он преобразил его с помощью рабочих комендатуры в уютнейшее жилище. Деревянный пол комнаты, в которую вошла Барб, был устлан ковром с веселым рисунком — зеленым с розовым — хорошей английской марки. Зеленые в цветочках обои придавали комнате уют; стол, диван, полка для книг, старинное, восьмидесятых годов, кресло орехового дерева с резьбой, обитое желтовато-зеленым плюшем, стояло у окна, как бы приглашая взглянуть на распускавшиеся березы, на расстилавшиеся сразу за домом поля и луга. Только узкая, плохая проезжая дорога, опоясывавшая город, отделяла дом от расцветающей весны. На столе, покрытом скатертью в мережку, стояли два чайных прибора. Денщик Посек в наглухо застегнутой куртке принес чайник, щелкнул каблуками и удалился.
Денщик — это обычно парень лет двадцати пяти — тридцати, который рад-радешенек пристроиться слугой какого-нибудь двадцатидвухлетнего, а то и девятнадцати- или восемнадцатилетнего лейтенанта: чистить ему сапоги, платье и понемногу втереться в доверие настолько, чтобы выполнять интимнейшие поручения своего барина. Ведь в это время рабство было заманчивее и безопаснее для благоразумных людей, чем геройское времяпрепровождение среди грязи, ругани, грохота орудий и смерти.
Сестра Барб в ситцевом — в белую и голубую полоску — неуклюжем платьице с пелеринкой выглянула в окно. «Как бы он не промок под дождем», — подумала она.
В таком облачении ей можно было дать все тридцать лет. До странности крохотной казалась ее хорошенькая черноглазая головка с маленьким ртом и блестящими глазами на массивной фигуре трактирщицы. Слегка вздохнув, она прошла в прилегающую к первой комнате спальню, где в старом зеркале над умывальником отразилась в зеленоватом освещении ее неуклюжая одежда. Она весело улыбнулась своему отражению, напоминавшему штуттгартскую торговку на горшечном рынке возле Шлоссплац, и быстро, словно ласточка, защебетала, разговаривая сама с собой на швабском диалекте.
Читать дальше