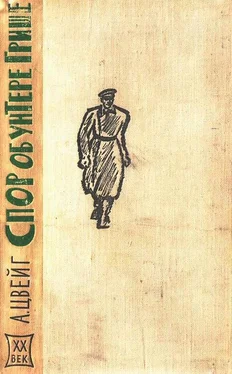Вместе с приятельницей, сестрой Софи, она самостоятельно, почти без помощников, обслуживала тифозный пункт, где медленно умирали слишком поздно доставленные сюда тридцать тяжело больных босняков.
Это были солдаты, входившие в состав прусских линейных рот. Тридцать смуглых, обреченных на смерть бойцов терпеливо лежали, не произнося ни слова, словно немые, в бараках, где никто не понимал по-босняцки, или, вернее, по-сербски. Как маленькие дети, они были привязаны к обеим сестрам и врачам, один из которых, доктор Лахман, по крайней мере кое-как объяснялся с ними по-польски. Им повезло.
Они попали к сестре Софи и сестре Барб. А ведь они могли попасть и в руки заурядных сиделок, лишь выполнявших свои обязанности, — впрочем, достаточно нелегкие, — и ничего больше. За ними ухаживали две молодые женщины — настоящие сокровища. И сегодня, после шести дней тяжелой, круглосуточной работы, у сестры Барб наконец выдался свободный вечер.
Барб проведет его у своего друга. Она открыла платяной шкаф обер-лейтенанта, вынула оттуда — в этот момент даже самый строгий начальник превратился бы в соляной столб — вынула оттуда среди бела дня очаровательное светло-красное платье, с пестрой японской вышивкой, подбитое кирпично-красным шелком, и стала переодеваться. Вот она стоит перед зеркалом в рубашке, панталонах и шелковых чулках — прелестно сложенная швабка из хорошей буржуазной семьи.
Без чепца эта блестящая птичья головка с острым подбородком и сложенными сердечком губами сразу утратила странно грубоватый вид. Она грациозно сидит на красивых смуглых плечах.
Сестра Барб! Молодая, женственная двадцатилетняя Барб Озанн, девушка из почтенной швабской семьи, давшей ряд ректоров и профессоров Тюбингенского университета, уже два с половиной года состояла сестрой милосердия Красного Креста и превосходно выполняла свои тяжелые обязанности.
Ее лицо еще более изменилось, когда красное тяжелое кимоно облегло ее фигуру. Здесь, в безрадостной мервинской глуши, на стыке тыла и фронта, среди мира мужчин с его застывшим варварским укладом, основанным на приказе и повиновении, глядело на нее лицо Барб Озанн, молодой женщины 1914 года. Вопреки условиям времени, места, вопреки законам этого распятого войной мира, она раз в неделю, на несколько мгновений, становилась сама собой.
Надев маленькие легкие лакированные туфельки, она вернулась в первую комнату. До ее слуха донеслось бульканье воды в электрическом чайнике.
«Он промокнет, — сказала она про себя, стоя у окна, ибо темные тени, предвещавшие дождь, легли на яркую зелень весенних полей. — У него даже плаща с собой нет».
Но он уже въезжал на велосипеде прямо в запущенный сад с расцветающими кустами сирени и шиповника, отделенный от улицы лишь шатким забором. Этот наполовину сгнивший забор цвета серебристо-зеленого мха так гармонировал нежными переливами красок с бревнами деревянной постройки тона серого шелка, что он-то прежде всего и пленил Винфрида, когда он выбирал для себя жилье.
Сквозь открытое окно высунулась черная, причесанная на пробор, головка Барб. Она успела еще уловить обращенный к ней сияющий взгляд юного лица, затем услышала, как лейтенант, прыгая через ступеньки, шумно взбегал по небольшой лестнице в верхний этаж. Кухня и комната внизу составляли царство денщика Посека.
Винфрид восторженно и осторожно обнял ее — осторожно из-за пуговиц на мундире, которые уже причинили однажды ущерб вышивке на ее платье. Затем она уселась к нему на колени, в большом зеленоватом, тихо поскрипывавшем кресле.
Они любили друг друга. Оба не были уверены в своем будущем: дивизия Лихова в любой момент могла быть переброшена на глинистые поля Фландрии или на иссеченные смертоносным градом известковые поля Шампани, а сестра Барб, несмотря на все меры предосторожности, могла каждый день заболеть и погибнуть от тифа. Поэтому они отдавали друг другу все, чем была богата их молодость.
Они оба надеялись дождаться мира, но не видели оснований к тому, чтобы задушить свое чувство в ханжеской атмосфере армии. При подавляющем перевесе мужчин на фронте каждая сиделка, даже самая неприглядная, становилась предметом страстных вожделений для сотен мужчин. Под личиной протестантского благонравия и прусской добродетели мужчины и женщины жили, урывая у жизни все, что могли.
Прежде чем Барб последовала за другом в соседнюю комнату, она заботливо выключила чайник.
Потом, когда начало смеркаться, они пили чай. Барб болтала о всяких пустяках. Винфрид, с папиросой между пальцев, полузакрыв глаза, смотрел на нее.
Читать дальше