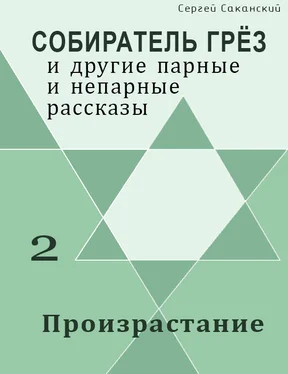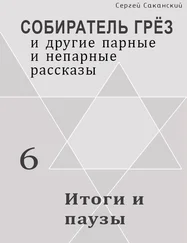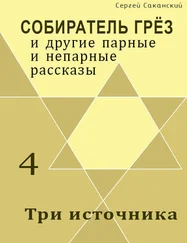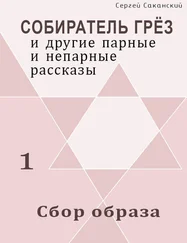– Ты ошибся, сынок, ты очень жестоко ошибся. Мы всю жизнь работали на государство, десятки тысяч часов. Я проработал сорок три года, с пятнадцати лет до шестидесяти, это – восемьдесят шесть тысяч четыреста часов, а мать – шестьдесят семь тысяч двести. Эти тяжелые часы наших жизней были превращены в квадратные метры и достались тебе по наследству, и ты виноват, ты не сберег наши жизни, благодаря тебе теперь получилось, что оба мы жили и работали зря, потому что наше добро прибрали к рукам проходимцы, и виноват в этом ты, ты, ты…
Ведя бухгалтерию своего предприятия, Сомиков научился высчитывать именно по рабочим часам, высчитывать каждый час, и как-то раз, суммировав количество рабочих часов своих родителей, ужаснулся нелепости, двойственности этих чисел… Сто пятьдесят тысяч и только – если говорить о каких-то количествах, и вся жизнь, если измерить время… С другой стороны, как долго тянется минута, если сидеть неподвижно и смотреть на циферблат… Как-то раз, засыпая, Сомиков вдруг ясно представил себе родителей, как сидят они рядом, молча, неподвижно, и смотрят на какой-то старинный циферблат… Так она с тех пор и стала выглядеть, смерть его родителей: два старика сидят и смотрят на белый какой-то циферблат.
Все их бесценное, в одно мгновенье украденное время, Сомиков мог бы вернуть обратно, и более того, когда-нибудь, когда будут у него деньги…
Я сделаю это. Не знаю, сколько тогда это будет стоить, но сколько-то оно будет стоить всегда – конечные, определенные деньги… И у меня эти деньги будут.
– Ты мой утеночек, рыбка моя. Расскажи, как трахал ее, как кончал… Хорошо тебе было? Я сейчас покажу, как это было. Сейчас ты, мля, узнаешь, как это было. Пойдем-ка, пойдем… Вазелинчика нет? Ну, ничего, мы и без вазелинчика…
Я закажу вас обоих, закажу, независимо от того, сколько тогда это будет стоить, а с каждым годом это будет стоить все дешевле, потому что рынок есть рынок, и он стихийно стремится к равновесию, во всём.
3
Его дела сразу пошли хорошо, к концу года он нанял еще двоих рабочих, встал под местную мафию, расширил сеть магазинов, куда сдавал свой товар, близкая Москва уже была вся заполнена, пора было подумать о других городах… Это была эйфория спроса и предложения – начало девяностых, светлая мечта о честном капитализме – люди хватали что ни попадя, сбрасывая свои никудышные трешки и рубли, кооператоры, которых все прибывало, строчили, тачали и отливали – что ни попадя – что-нибудь попроще да подороже, Сомиков встречал на улице женщин, носивших его изделия, и теперь, сортируя и складывая, чувствуя гладкое теплое дерево, Сомиков сладостно предчувствовал чье-то тонкое запястье, чью-то гладкую шею…
Но внезапно всё кончилось. Широко объявленный капитализм оказался лишь очередным обманом, надо было бы сразу догадаться, сынок. Они никогда ничего своего тебе не отдадут. Если в стране правили чиновники и процветали спекулянты, неужели ты думаешь, что после революции придут какие-то другие люди? А куда же денутся те, прежние?
Спрос на товар Сомикова резко упал, потому что это был отечественный, местными мастерами произведенный товар. Рядом легли на прилавки турецкие, китайские, индонезийские фенечки, они были сделаны плохо, быстро ломались, но было у них одно неоспоримое достоинство – иностранное происхождение.
Рабочие разбежались, потому что хозяин не мог выплатить им зарплату. Теперь его рабочие зарабатывали больше Сомикова, кто чем – один стал спекулянтом в Кракове, затем в Лужниках, другой устроился охранником, защищая имущество спекулянтов, третий сидел в палатке, спекулянтам прислуживая. И только один, последний, он же первый из нанятых, этот добродушный увалень, в силу инертности своего характера оставался с хозяином. Он также зарабатывал больше Сомикова, поскольку хозяин платил, урезая собственную долю, и про себя над Сомиковым смеялся… Так прошел еще год.
Все это было гнусно, тоскливо: каждое утро – пыльный сарай с цементным полом, ироничный рабочий, на содержание которого, его и сарая, уходит почти вся прибыль… И сарай нельзя бросить – задолжал за аренду, и рабочего не уволишь – он умеет, а ты нет… Все это было бы так гнусно, тоскливо, если бы вдруг не забрезжил вдали белый, немыслимый свет, Господи…
4
Как-то утром Сомиков, снова свернув с дороги, углубился и – о, чудо! – снова встретил ее и разошелся на узкой тропе, в том же месте почти… Не было в этом, конечно, никакого чуда, если считать, что Сомиков еще в первый раз заметил время, высчитал, и предварительно постригся, и оделся поприличнее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу