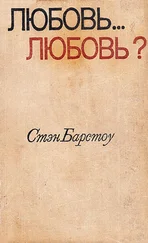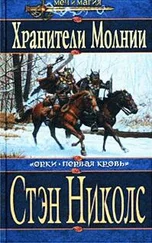— Их и возьму. — Я заплатил. — Что случилось с фермой Хеншоу? Она стояла там, за холмом.
— Хеншоу? — Он расплылся в улыбке, в которой читался восторг: вот встретился, дескать, полный невежда. — От жизни малость поотстали, а? Они умерли. Оба. Уже пятнадцать лет назад.
— Это я знаю. Я их ферму не найду.
— А ферму снесли. Прокатился бульдозер, и осталось гладкое место.
— Понятно. Вы при Хеншоу не держали магазин?
— Нет, что вы! Я купил дело, когда прикрыли карьер и меня выбросили на улицу. Бывали, выходит, в наших местах?
— Гостил у Хеншоу несколько раз. — Уголком глаза я засек женщину, появившуюся из‑за полок. Она наклонилась, разыскивая что‑то под прилавком.
— Ну, что на этот раз потеряла? — окликнул продавец.
— Перчатки Дарена. Опять куда‑то засунул. Терпеть их не может.
— В деревне жила тогда одна девочка. Сони Элизабет Уэлс. Не ваша случайно родственница?
Продавец, прищурив глаза, вгляделся в меня внимательнее. И снова ехидная ухмылочка. У него вообще был вид всезнающий и язвительный. Могу поспорить, у своих постоянных покупателей он пользуется славой человека солидного. Его взгляд стрельнул поверх меня в угол. Когда я стал оборачиваться вслед, он известил:
— Вот она. На вас смотрит.
Женщина, услышав свое имя, выпрямилась и стала разглядывать меня. Я почувствовал, что уши у меня вспыхнули.
— Сони, тут тобой молодые люди интересуются.
На тощей фигурке болтался нейлоновый халат. Удивительно, так рано стала расцветать, а сейчас грудь почти плоская. Я заметил обручальное и свадебное кольцо.
— Мы с вами знакомы?
Хорошенькой и то не назовешь. Кожа тусклая, мешки под узкими глазами: не то наплакалась, не то плохо выспалась и еще не умывалась. Рот, очертания которого она унаследовала от человека за прилавком, узкий, уголки губ опущены, словно бы самой природой не предназначены для улыбок.
— Вряд ли вы меня помните, — обратился я к ней. — Но как‑то летом я гостил на ферме Хеншоу. Вам было тогда лет двенадцать — тринадцать.
— Вас было двое, — вдруг сказала она. — Братья, да?
— Верно.
— Я бы вас не узнала. Может, из‑за бороды.
— Давно все было. — И я вряд ли узнал бы ее, случись столкнуться где‑нибудь. Я тщетно выискивал былую живость, чудо, которое делало ее совершенно неотразимой в детстве.
— А… вы еще любили драться, — припомнила она.
— Ну что вы! — опешил я на минуту.
— Нет, нет, я ж помню, — настаивала она. — Дрались вы вовсю. Вы старший или младший?
— Старший.
Она кивнула, по — прежнему не спуская с меня глаз.
— А ваш брат как?
— Нормально.
В задней комнате что‑то грохнуло. Она встрепенулась.
— Дар — рен! Чертенок, а не ребенок! Вечно бедокурит! — Она заторопилась туда.
— Помогает мне в магазине, — объяснил Уэлс. — Жена умерла почти два года назад, а зятек вечно в разъездах. Нефтяное оборудование. А вы в наших краях тоже по делам?
— Нет, я так. Проездом.
— А чем занимаетесь?
— Учитель английского.
— Ага! Я так и знал! Что кто‑то в этом роде. Бакенбарды ваши… — Он пощипал свой чисто выскобленный подбородок.
И говорит, подумал я, совсем не желая обидеть. Всего лишь, чванясь знанием человеческой натуры, бесцеремонно пришлепнул ярлык подобно любому поклоннику штампов. Интересно, как бы они с Сони отреагировали, скажи я, кем стал мой младший брат?
Вошел покупатель, я распрощался.
Помнится, Маккормак сказал, что мы теряем детей, потому что они вырастают и меняются. Фрэнсис навсегда останется восемнадцатилетней и красивой. Кэтрин Хэтерингтон будет жива в памяти Люси школьницей, пока Люси не увидит несчастную умалишенную миссис Нортон. Тогда Кэтрин, как только что прелестную малышку Сони, сотрет из существования женщина, в которую та превратилась.
Я тянул время. Крюк я дал отчасти из любопытства, вполне понятного, но главным образом, чтобы подольше ехать. Плана действий у меня еще не было. Нагрянуть в роли обманутого разъяренного мужа — такое мне не улыбалось. По — прежнему не столько злился я, сколько недоумевал, стараясь расшифровать подоплеку банальнейшей ситуации. Принять банальность, значило признать факт, что обретался я в искусственном мирке. Ладно, пусть я никогда не предполагал, что на себе испытаю что‑то из того, другого мира — мира созидания и творчества; побед и провалов; тяжкого труда, пота и профессионализма; мучений, боли и нравственной неустойчивости. Я был человек осведомленный: читал, слушал, смотрел. Развешивал картины на стенах, устанавливал собрания сочинений на полках, расставлял в аккуратные ряды красочные конверты с пластинками. Витийствовал об искусстве — новые капли в море критических суждений — и не ведал ничего, потому что ничего из этого не выстрадал. Эйлина справедливо обличила меня. Да, я жил на обочине, вечным зрителем. Но сколько в том взрыве крылось самооправдания? И почему вдруг истина предъявленного обвинения обязывает меня покорно стелиться им под ноги? Топчите, мол, на здоровье!
Читать дальше

![Стэн Барстоу - Святая ночь [Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей]](/books/26022/sten-barstou-svyataya-noch-sbornik-povestej-i-rassk-thumb.webp)
![Нина Гастелло - Рассказ о брате [Документальная повесть]](/books/34423/nina-gastello-rasskaz-o-brate-dokumentalnaya-pove-thumb.webp)