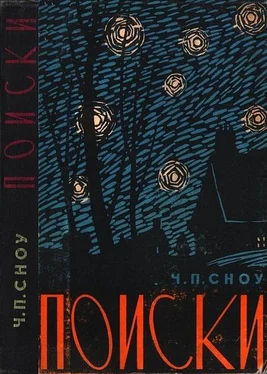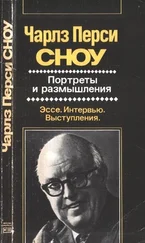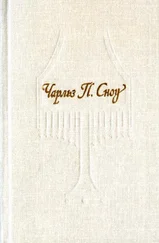Я не мог покорно и терпеливо переносить свое горе. Изо дня в день я молча обедал в общем зале. Мне было противно встречаться за едой со знакомыми. Впервые в моей жизни мне стали непереносимы случайные разговоры с людьми, которые были достаточно близки, чтобы раздражать, и слишком далеки, чтобы принести утешение. Я видел, что Мертон и многие другие удивлены и даже обижены. В те минуты, когда мысли об Одри не так угнетали меня, я чувствовал себя виноватым, понимая, что ставлю их в неловкое положение — всегда ведь находились злопыхатели, не любившие ни их самих, ни их молодого подопечного. Теперь я был хорошей мишенью для критики, как плохо воспитанный молодой человек, который уехал на несколько месяцев в Германию, никому ничего не сказав, и, вернувшись назад, не произносит ни единого слова, за исключением случайных, довольно опасных радикальных замечаний. Иногда, не в состоянии сидеть за общим столом, я обедал в одиночестве у себя дома.
Несколько раз я писал Одри. Хотя разум подсказывал мне, что разрыв окончателен и у меня нет никакой надежды, я все же писал ей, умоляя ее, просил о встрече, пытался разбудить в ней воспоминания о прошлом, использовал все, чтобы тронуть ее сердце. Она написала мне: «Мы не должны встречаться, пока все не кончится. От этого будет только тяжелее. Мне самой часто хочется повидать тебя и поговорить с тобой, но ты должен быть разумнее».
Однажды, перед ее свадьбой, я поехал в Лондон, чтобы попытаться увидеть ее, но она в это время была у отца. Второй раз я уже не мог заставить себя поехать. Я получил письмо от Шериффа. Он написал: «Я должен чувствовать себя, как коварный друг в мелодраме. Но боюсь, Артур, что я ничего такого не чувствую, ты должен поверить, что с того момента, как я влюбился в Одри, я думаю только о ней. Как если бы ни я, ни она никогда не знали тебя. Только она сама по себе и имела значение. Не было ничего важнее ее. И сейчас так. Я до сих пор живу с ощущением, что обстоятельства могут дать сильнейший толчок жизни, сметая на своем пути все мелкие препятствия. Мое письмо к тебе говорит само за себя. Если бы я не знал тебя, не ценил так высоко твоих достоинств, я постарался бы скрыть свое счастье…» Дальше он спрашивал меня, не нужно ли ему приехать ко мне. У меня почти не осталось раздражения против него, но я отказался; почему, сам не знаю.
Я очень страдал в ожидании их свадьбы, но, когда наступил этот день, оказалось, что он принес мне меньше огорчения, чем некоторые досадные мелочи. Я испытал гораздо более острую боль спустя неделю, когда получил от одного своего приятеля из Лондона письмо с приглашением «приехать вместе с вашей молодой дамой пообедать со мной и моей супругой. Вечером мы бы сходили в театр и поужинали, как прошлым летом». Я испытал горькое удовлетворение, выбирая свадебный подарок, и в конце концов заплатил гораздо больше, чем мог себе позволить, за комплект старинных венецианских бокалов. Стыдно признаться, но, покупая их, я надеялся, что они напомнят Одри один эпизод из нашего прошлого, впрочем, я тут же нашел себе оправдание в том, что бокалы действительно очень хороши.
Довольно длительное время после их свадьбы я был ужасно несчастен. Я кое-что делал, но мне приходилось заставлять себя, и я не мог найти в работе хоть немного забвения. За работой или вдали от нее я все равно думал только о том, чтобы укрыться от воспоминаний о былом счастье. Я изматывал себя двадцатимильными прогулками, я часто ходил в театр, я пытался найти себе какие-то новые интересы. Мы много спорили с друзьями в этот период о коммунизме, и я прочитал довольно много работ по философии.
И, конечно, при всем этом я старался делать вид, что ничего особенного не произошло. Помимо настоящей глубокой раны, была задета и моя гордость, и я делал глупые и слабые попытки залечить ее. Я даже пытался убедить себя, что никогда не потерял бы Одри, если бы не наука; вот, дескать, я, талантливый молодой человек, преданный науке, который отводит любви подобающее ей место, — естественно, что ей захотелось иметь более скромного и более преданного любовника. Но это выглядело слишком смешно. Я не мог отказаться от своего увлечения работой точно так же, как я не мог не любить Одри. Такой, каким я был, с моими запросами, с моими стремлениями и желаниями, я неизбежно должен был найти свое призвание и отдаться ему со всей страстью. Не обязательно в науке, с таким же успехом это мог быть какой-нибудь вид искусства или политика, но отвергать эти увлечения, как менее острые, чем любовная страсть, значит обеднять человеческое существование. В какой-то момент любовная страсть, конечно, может значить для человека бесконечно больше, чем все остальное, но если она решительно меняет направление его жизни, то это только — как бы сказать — несчастный случай. Я так любил Одри, что все остальное, чем я занимался, казалось бледным и лишенным жизни, и все же, оглядываясь назад, я вижу теперь вполне отчетливо то, что мелькало в голове у меня еще в то время, а именно что любовь повлияла на мою жизнь гораздо меньше, чем наука или заботы о материальном благополучии. Не так легко признаваться в той роли, которую играл мой страх перед отсутствием денег в течение всей моей молодости. Но, изучая глубины человеческой души, оставлять этот вопрос в стороне значит продемонстрировать, как плохо вы ориентируетесь в этих глубинах. Стремление к обеспеченности существования, символом которой часто являются деньги, во многом определяет наш образ жизни; очень редко мы можем полностью игнорировать это обстоятельство, да и то ненадолго. Позднее в моей жизни бывали периоды, когда я мог позволить себе посмеиваться над проблемой материального благополучия, но довольно осторожно.
Читать дальше