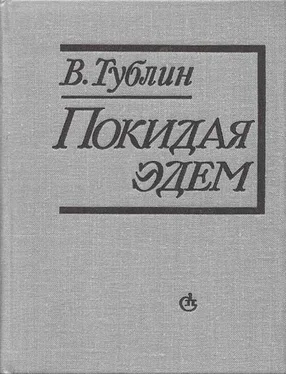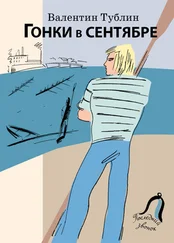В том доме, откуда я ушел, я выпил все, что там было, девушка в халате с драконами смотрела на меня в ужасе, она увидела меня с новой стороны. С новой? Чушь, она просто меня увидела, узнала, что я — это я, что я существую, что я жив и ничего не забыл. Внутри у меня ничего не было, все выгорело, спеклось, я был холоден, как небо, я не плакал — я не мог, хотя бы и хотел. Нет, я не плакал. Внутри у меня не было ничего, я был вычищен и выпотрошен, я был абсолютно стерилен, у меня ничего не болело, и я не плакал. Мне не было больно, да и при чем тут был я.
Я стоял у Марсова поля. Строго и прямо лежали гранитные глыбы, горел вечный огонь, чистое оранжевое пламя поднималось к небу. Я протянул руки, но теплее не становилось, огонь не грел меня, и это было правильно, потому что это был огонь, зажженный живыми в память о мертвых. Они могли бы жить и радоваться жизни, но погибли, чтобы могли жить мы, мы все — вы и я.
Это было пламя героев, а я был трус, я бежал от жизни, спрятался от нее, отгородился; я не боялся смерти, но я был трус, и мне здесь было не место. А было ли оно вообще?
И я вернулся к домам. За стенами домов спали люди, они лежали в объятьях друг друга, объятья становились все сильнее, дыханье прерывалось. Они сеяли новую жизнь, и они были счастливы. А я завидовал им, да, я был полон зависти, как тот, кто не согрет другим человеком, как все одинокие, которые несчастливы, ибо им нечего сеять. Они бесплодны, и будущего у них нет.
И тут он увидел девушку. Он даже не понял, откуда она взялась, она появилась внезапно, вышла из‑за какого‑то угла, пальто у нее было распахнуто, волосы спутаны, в руках у нее было что‑то, что она бережно прижимала к себе; он подумал, что это ребенок, и шагнул ей навстречу. Но это был не ребенок, конечно, это был не ребенок, девушка сама была похожа на ребенка. Это была Лена — но ее могли звать любым другим именем, не в имени было дело, имя ей было не нужно. Ей было восемнадцать лет, и это был худший день ее жизни. Жизнь ее была окончена, это она поняла с утра. Она не пошла в институт, весь день она лежала в холодной, нетопленной комнате, которую снимала в Третьем Парголове; к чему было топить, к чему было жить, после того что с ней случилось. Жить ей было незачем. Весь день она пролежала в слезах. Она подумала было, что надо написать родителям, но не было сил. Вечером она пошла в бар того самого ресторана, где, подобно античному герою, совершал свои подвиги покинувший ее возлюбленный. Он был красив, как бог, и так же жесток. Так пусть, решила она, посмотрит на нее в последний раз. Но он не смотрел на нее, ему было чем заняться, ему было на кого смотреть, с этой малышкой было покончено; он искренне удивился бы, узнай он о ее мыслях. Это же смешно, сказал бы он, от этого не умирают.
Он не смотрел на нее, зато смотрели другие, кое‑кто ее знал, ее заметили сразу, она была свободна . Можно ли было упустить такой случай? Она недолго пробыла одна, ей ведь было все равно, с кем сидеть за столиком в последний раз, ей было все равно, кто подливал ей в бокал и что там ей подливали. Шампанское? Она выпила шампанского. Это была роковая ошибка, она не должна была этого делать. Шампанское ударило ей в голову, все закружилось, как в детстве на карусели. Что это вы мне наливаете?.. А впрочем, лейте, все равно. Что там было дальше, она не помнила. Кто‑то появлялся, кто‑то исчезал. Она только помнила, что это последний день ее рабства, и махнула рукой. Леня, бармен, наконец посмотрел на нее. Он смотрел на нее с удивлением: малышка, кажется, утешилась, ему было наплевать, но он не думал, что это произойдет так быстро, и компания была слишком уж темной.
Компания и вправду была темной, но его это не касалось — так она заявила, когда он предложил ей вызвать такси, отправить ее домой; он знал, чем заканчиваются подобные загулы, и ему было жаль ее, из этого ей не выбраться. Он пожал плечами.
— Это не твоя компания, — сказал он, но ей‑то было все равно.
И она снова пила шампанское и коньяк в баре, где Леня смешивал им коктейли, потом какие‑то типы звали ее на квартиру, потом появились какие‑то непотребные девки, которых она едва знала в лицо, потом появились финны. Или шведы? Черт их разберет, ей‑то что, финны, шведы, ей на всех наплевать. Она приехала учиться, предыдущие семнадцать лет она прожила в Воронеже, откуда ей было знать, шведы это или финны. Они пили джин в баре «Садко», они пили «мартини» в баре «Интурист», они пили водку и бальзам на чью‑то валюту и чьи‑то рубли, какой‑то тип с лицом водяной крысы хватал под столом ее колено, и она дала ему по его крысиной физиономии. Час решения приближался. Она сказала, что ей надо выйти, она спустилась в туалет, достала таблетки со снотворным — нет, только не смотреть, не колебаться… Она не колебалась. Она не сосчитала их, ибо это не имело значения. Она не успела даже подумать ни о чем. Ей нельзя было пить коньяк с шампанским, ей всегда было плохо от вина, но так плохо ей не было еще никогда. Стеклянная трубочка выскользнула из рук, таблетки покатились по мокрому полу… Значит, она не умрет? Ей стало страшно. Куда ей было деваться, куда идти?
Читать дальше