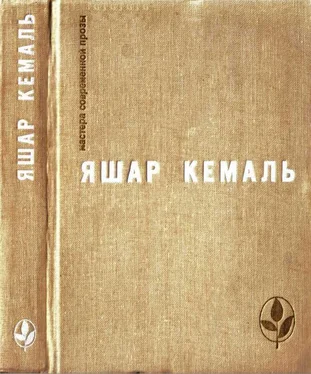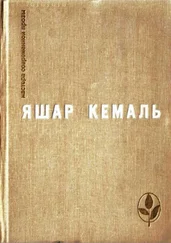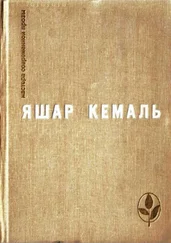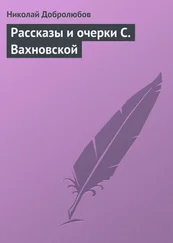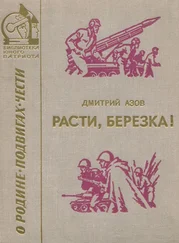Не упомню случая, чтобы он попросил меня о чем-нибудь. А вздумай я ему что подарить, уверен, взять не захочет. Хоть расшибись, не возьмет. «Я, — скажет, — ни в подарок, ни в долг брать у тебя ничего не могу. И не хочу. Ты мне друг. Может, я чудак, но не хочу, чтобы на нашу дружбу пала тень». Вот так-то… Бывало, я из кожи вон лезу, чтобы уломать его. «У врага стыдно брать, — говорю, — но друга нельзя обижать отказом». А он знай лишь посмеивается. Красивый у него смех. Он словно бы молодеет, когда смеется. Кстати, сколько ему лет? Понятия не имею. Даже приблизительно сказать трудно. То он выглядит за сорок, то и тридцати не дашь. День на день не приходится. А спросишь напрямую, так он замолчит, призадумается, а то и вовсе отойдет подальше и долго слоняется по берегу моря, погруженный в невеселые думы.
Как-то раз он пришел ко мне радостный, сияющий, словно отыскал давно потерянную вещь. Помалкивает, как обычно, а у самого на лице написаны лукавство и гордость. Никогда прежде не видел я у него такого выражения. «Свершилось! — вдруг выпалил он. Но в тот же миг, очевидно, раскаялся в сказанном, поник, слинял как-то. Потом торопливо добавил: — Разве на земле нет людей, кроме друзей и врагов? И я веду с ними дела…»
Нет, он неисправим! Мучается, ищет, страдает и наконец вроде бы прозревает: есть на земле не только друзья и враги…
Волосы у Чакыра рыжие, густые, блестящие, плечи — широченные, сильные, и поступь могучая, будто не человек, а каменный монумент шагает. Частенько у его губ пролегает горестная морщинка, даже когда он смеется. А в карих глазах то и дело вспыхивает ярко-зеленая искорка. Брюки, рубашка, пиджак выглядят на нем как с чужого плеча, но, как ни странно, это лишь красит его.
От Чакыра исходит аромат чистого, безбрежного, сверкающего моря. Так пахнут водоросли — солью, йодом, свежей рыбой, южным ветром. Пройдет он рядом с вами в жару, и сразу пахнет на вас морской прохладой, свежим туманом. Над ним вроде бы всегда стоят белопенистые облака. Ручищи у него тяжелые, натруженные, кулаки как кувалды.
Сидим мы с ним, бывало, на прибрежных скалах и часами молчим. Над морем вьются легкие чайки, носятся стремительно бакланы. Порой море причудливо меняет свой цвет. То вдруг заискрится, вспыхнет яростно, а поодаль — вода черная и стоячая, как в омуте. А потом вскипит, вздыбится черная вода и залучится красновато-сиреневым цветом. Голубые, бирюзовые полосы постепенно переливаются в зеленые и оранжевые. А то вдруг солнечный столб гигантским кинжалом рассечет морскую ширь надвое. В такие минуты Чакыр не может сдержаться и восторженно вскрикивает: «Вот оно, море-то, какое!» И при этом глаза его улыбаются.
Потом мы поднимаемся и уходим. Что мы говорили друг другу, прощаясь? Ей-богу, не помню. Скорее всего, ничего. Днем ли, вечером ли расставались? Тоже не помню.
Как-то раз я повстречал его, когда он только-только вернулся с рыбной ловли. Руки его по самый локоть были в рыбьей чешуе. Увидев меня, улыбнулся. Еще издали протянул огромную живую рыбину. «На, твое счастье! Как только вытащил ее из воды, так сразу решил, что она твоя». Он был беспечен, как ребенок. Сияющим взглядом смотрел то на меня, то на пойманную рыбу, то на море. В какой-то миг мне показалось, что его рука с зажатой рыбой, и лицо, и плечи стали голубыми. Заходило солнце. А Чакыр продолжал на моих глазах покрываться голубизной. «Ну что, увидел?» Я мотнул головой. «То-то же! — засмеялся он. — Лови!» И, не доходя несколько шагов до меня, кинул рыбу. Я поймал ее. «Ешь на здоровье». — «Спасибо», — смущенно пробормотал я.
Рыбаки, что сидели в лодках у него за спиной, тихонько посмеивались. За весь день ему удалось выловить одну-единственную рыбу, и он долго мучился, раздумывая, как мне ее отдать.
Они ведь великие хитрецы, наши рыбаки. И прозорливы, как джинны. Лишь взглянут на человека — и тут же прочтут, что у него на сердце. Спустя пару дней они мне сказали: «Видел бы ты, братец, в тот день Чакыра. Видел бы, как дрожали его руки, как радовался. Чуть с ума не сошел».
Ежедневно Чакыр раскладывал свой улов на расписном деревянном лотке. Он любовался рыбой, как дитя, и не выкрикивал, а пел: «Рыба! Све́жа рыба! По-о-о-окупай!» Он торговал во Флорье, Басынкёе, Ешилькёе [45] Районы Стамбула.
. Деньги, не считая, совал в правый карман брюк. Распродав улов, бывало, оглянется по сторонам, потом притопнет по мостовой и, запустив руку в карман и позвякивая мелочью, торопится домой.
Мы опять сидели на скалах. Чайки с пронзительным криком носились над морем. Я впервые видел Чакыра таким злым.
Читать дальше