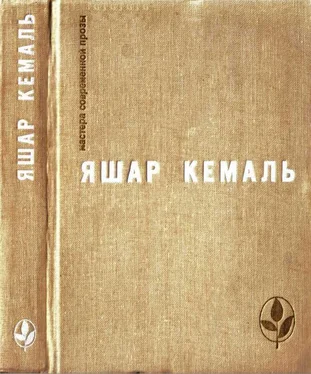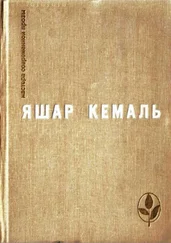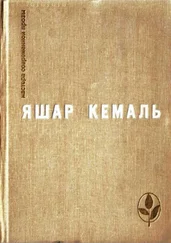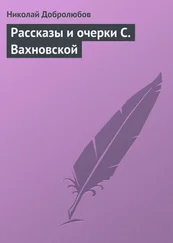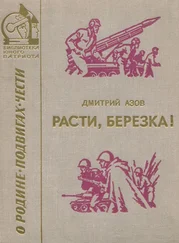Мусдулу склонил голову, плотно сжал тонкие губы. Сидит и молчит.
— Время сейчас тяжелое — страда, — продолжал дядя. — У Исмаила никого нет, совсем он одинокий. Сердце кровью обливается на него смотреть. Вот какая с ним беда приключилась. В кои-то веки из батраков выбился, а теперь пропадает из-за ребенка. Почему молчишь?
Мусдулу по-прежнему сидел неподвижно, опустив голову.
— Тебе, сынок, можно сказать, испытание бог послал. Спасешь живое существо — ворота в рай себе откроешь. Жизнь даруешь человеку — Аллах воздаст тебе за это. Послушай, как он плачет. Каменное сердце надо иметь, чтобы выдержать такое.
Мусдулу поднялся, направился к выходу. И, уже переступив порог, резко обронил:
— С чего это вы взяли, что мою жену можно в кормилицы нанимать?
И зашагал прочь.
Исмаил кинулся было ему вдогонку, руки протянул.
— Брат! — закричал со слезами в голосе. — Не бери греха на душу!
Дядя схватил его за руку.
— Не унижайся, Исмаил! Не проси ни о чем этого мерзавца. Ты уже совсем мужскую гордость потерял. Ну и сукин сын! Пусть лучше дитя помрет, но ты не унижайся. Моя жена шестнадцать похоронила, и не таких заморышей, как твой, — крепких, как бычки, йигитов. Похоронила — и ничего.
— Исмаил, миленький, ты совсем рассудок потерял, — сказала старая Дженнет. — Он же еще и не человек вовсе. Подумаешь, месяца нет от роду. У тебя еще дети будут. Вот оправишься малость, женишься, других народишь. Я шестнадцать похоронила. Как душа вынесла такое несчастье — ты не меня спрашивай. Шестнадцать в землю положила. Горе мне очи выело. А ты еще молодой, снова женишься. Аллах тебе других деток пошлет. Не казнись, милый. Долго ли самому заболеть?
Исмаил побледнел как стена. Дженнет притихла, задумалась.
— Подожди, дай подумать. Кто же еще есть? Хромоножка Эмине — раз, Хюрю — два… Эмине да Хюрю. Никого больше, — рассуждала она сама с собой. — У Хромоножки молоко ядовитое. Сколько помню ее, она в год по младенцу рожает, и ни один не выжил. Что ни год хоронит ребенка. Как и я, горемыка. Неделю-две поживут, и Аллах их к себе забирает. Она уж и сама со счету сбилась, сколько схоронила. И твой помрет, если ей отдать. А Хюрю, бедняжка, за своим родным не смотрит, день-деньской в поле да в поле. У нее молоко в грудях горит. Дети животами исходят от горелого молока. Хюрю своего младенчика на слепую свекровь оставляет. Какой уж там присмотр может дать слепая?
— Жена, — прервал ее дядя, — ну что ты зарядила: ядовитое молоко, неядовитое. Нет у Исмаила другого пути, как отдать Хромоножке.
— Да ведь это ж все равно что загубить младенца.
Исмаил вмешался в спор:
— Тетушка, нет у меня выбора. Если так суждено, лучше пусть помрет от дурного молока, чем от голода. Пусть, как другие дети, помрет от болезни, но только не от голода, не на моих руках.
Делать нечего, послали мальчонку за Хромоножкой. Долго ждать не пришлось. Эмине приковыляла, с трудом волоча покалеченную ногу. Была она тощая, низкорослая, корявая. Глядя на нее, люди диву давались, как она только на ногах держится, совсем на бок не завалится. Одета она была в старые-престарые, заплата на заплате черные шаровары и рубаху, насквозь пропыленную, засаленную, всю в пятнах засохшего теста. В распахнутом вороте виднелись обвислые смуглые груди. На глаза упали пряди немытых, давно не чесанных волос, темное лицо все усеяно крупными, как соски́, бородавками.
— Зачем звал, Вели-ага? — обратилась Эмине к дяде.
— Тут вот какое дело, доченька. Видишь это дитя? Исмаил сделает для тебя все, что пожелаешь, только выкорми его ребенка. Ничего для тебя не пожалеет. Сделай доброе дело, спаси дитя от неминучей смерти. Аллах зачтет тебе благодеяние. К тому же в накладе не останешься, Исмаил все оплатит сполна. Что скажешь на это, дочка?
Исмаил не утерпел, добавил:
— Сестра Эмине, пожалей дитя. Я для тебя что хочешь достану, хоть птичье молоко.
Хромоножка помрачнела.
— Вели-ага, как можешь просить меня об этом, зная, что родным детям у меня молока не хватает. Ведь как питаться надо, чтобы молоко прибывало. А какая у меня еда?
Исмаил выпрямился:
— Послушай, Эмине, у тебя все будет. Соглашайся.
— Не могу я такой вопрос без мужа решать. Вот он вечером придет, посоветуемся. А пока я ничего сказать не могу.
Так и ушла, не покормив плачущего ребенка.
Прибежала Дондю, взяла ребенка на руки, дала ему грудь. Плач прекратился.
— Меня мать не пускает к вам, — зашептала Дондю. — Такой шум подняла — страсть! Я на минуточку выскочила.
Читать дальше