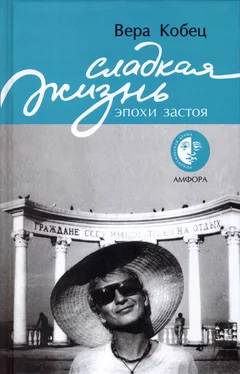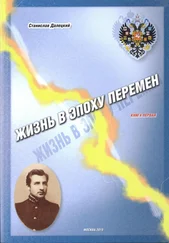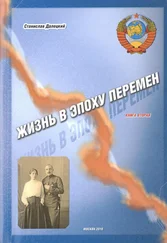Ему было семнадцать лет, минувший год сделал его сиротой, мир, привычный и чуть надоевший, как то какао, которым поили его по утрам, исчез, улетучился, испарился. Вокруг стояли роскошные декорации, но спектакль, к которому он опоздал, был уже сыгран. Он вспомнил, как мучили его в детстве слова «Конец Римской империи», и ему было странно, что он приобщился к событию, по своей важности не поддающемуся осмыслению. Ему было трудно, и он пытался найти опору, защиту. Он сделал правильный ход: работая в некой конторе, где разбирали два года назад потерявшие смысл документы, поступил в Зубовский институт. Здесь изучали искусство, здесь изучали литературу. Но Веденееву было не спрятаться от постоянного чувства, что он живет между обломками, среди развалин. И храм культуры, к которому он приобщился, казался ему бутафорским, и мертвыми были слова. «Ну наконец-то жизнь стала входить в колею», — радостно говорила тетушка Веденеева Мария Петровна, раскладывая пасьянс. Она хозяйничала теперь в квартире родителей Веденеева, преобразовавшейся в соответствии с ситуацией: в бывшей столовой жил некто Андрей Степанович, в спальне родителей — матрос Коля Скворцов. Выпив, Коля был весел и пел, а потом вдруг впадал в тоску и начинал кричать дико, надрывно: «Вот они! Вижу! Идут! Идут, гады! Не подходи, не трожь, сволочь, ты же покойник, отойди, гнида!» Унять его могла только Мария Петровна. Она входила к Скворцову спокойно и деловито и говорила: «Нельзя так, голубчик. Молитесь, молитесь заступнице», — а потом брала Колю за руки и крестила, а он плакал, а она отводила его — покорного — к кровати, укладывала, как маленького, укрывала одеялом, еще раз крестила и уходила, а его всхлипывания становились все реже и реже и наконец замолкали. Племянник несколько раздражал Мария Петровну. Однажды она начала с ним беседовать о гордыне. «Смирение — главная из добродетелей, — говорила она. — А кроме того, нужно помнить, что все, все от Бога». Племянник не отвечал ей; через какое-то время нашел себе комнату около Кронверкской, и широкий рукав реки отделил его от квартиры, хранившей память о мальчике в белых носочках, о нем же постарше, читавшем «Дубровского» и «Отверженных», а потом, позже, «Подростка» и «Воспитание чувств», «Бесов» и «Петербург», Вячеслава Иванова и Мережковского.
Квартира, в которой нашел обиталище Веденеев, была по стечению обстоятельств грязной и шумной, а комната — неудобной, и все же он захотел сюда въехать, и дело было не в чем-нибудь — в витражах. Витражные окна были на всех площадках: от первого этажа и до пятого. Лестница уходила торжественно вверх, и через красные, желтые и зеленые стекла лился сияющий, радостный свет. Корзины фруктов, невольники, ангелы-девы в спадающих складками золотистых одеждах — все было нелепо и все было празднично, и Веденееву, когда он вставлял ключ в замочную скважину, чтобы потом до утра погрузиться в содом коммунальной квартиры, чудилась некая вакханалия в пышном соборе, и его жизнь среди хохота, рева и брани случайных соседей была как бы естественной ее частью. По ночам, когда все в квартире наконец затихало, Веденеев писал маленькие истории, напоминавшие, может быть, сказки Гофмана. Потом, постепенно, возник большой замысел. Почувствовав смутно абрис романа, переплетавшего фантастически прошлое и настоящее, Веденеев сначала скептически улыбнулся и отогнал прочь несуразные мысли, но вскоре со смешанным чувством тревоги и радости понял, что они оплели его и что он пленник невесть откуда возникших фантомов. Несколько месяцев он пытался сопротивляться. Он резал нити ножами иронии, распутывал узелки с помощью доводов логики, но с каждым днем становился беспомощней и зависимей. И вот тогда, в этот период тоски, ожиданий, видений, он в первый раз встретил Юнну, юную девочку в красно-клетчатой юбке. Собственно, это и встречей назвать нельзя. Он стоял на площадке, а наверху хлопнула дверь, и мимо него пронеслись, как во сне, девочка и собака. «Тише, Бурбон, Бурбон, тише!» Но язык высунут до отказа, и с мягким рычанием, вздохами, топотом мчится огромное, густой шерстью покрытое тело и тянет вслед за собой хозяйку, а она, легкая, ловкая, смуглая, тоже стремится за ним и проносится мимо, и в этом есть что-то от мифа, от вечности и от мечты о полете. Может быть, было, конечно, не так. Может быть, Веденеев давно был знаком через того же Андрея Никитича Сухоржевского, часто его, студента, к себе приглашавшего, с отцом Юнны, доктором и меломаном, может быть, он и дочку уже раньше видел, все это уже неважно. А вот та встреча, тот образ, мелькнувший перед глазами, то ощущение приглашения к жизни сыграли, как это ни странно, огромную роль и в большой степени помогли ему одолеть и растерянность, и чувство краха реальности, которые столько лет были основой его душевного состояния. Девочка в красно-клетчатой юбке, как символ движения жизни, не раз приходила на память. Он усмехался, качал недоверчиво головой, потом срывался вдруг с места и шел, сам не зная куда. Эти кружения по городу были круженьями по лабиринтам души; он метался, но знал уже, что впереди есть и свет, есть и выход. И вскоре он начал писать Роман.
Читать дальше