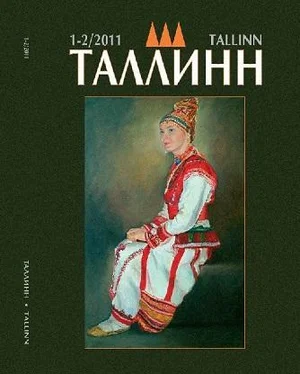Прошла мама в молчании. Прошли брежневские старухи. Прошёл поэт и его писающий голос. В руках у поэта был кислый войлочный колпак. Прошли страхи, почти не страшные. Прошли все мои мании, малые и большие, напевающие маму, меня, старух, поэта с писающим голосом, вообще всё. Прошли дети, растленные и растлённые, вываренные до мыла. Прошли физалисы и все их пыли и моли. И все хули и пули и штыки. И лисы, раздавленные и нераздавленные, и они подмигнули мне.
Прошёл мамин голос. Но я его не узнала. А когда узнала, уже проснулась.
В ридикюле одной из старух сидела мамина обезьянка.
Ласточка в этом сне была белой и билась о снег.
Моё детство закончилось, когда я получила первую в своей жизни пощёчину. Мне тогда было одиннадцать лет.
До этого мама давала мне шлепки и подзатыльники. Я дулась на неё, но, в общем, было не больно и не очень обидно. Пощёчину я получила за то, что написала контрольную по русскому на двойку. Я оправдываюсь: «У нас почти все получили двойки». но мать не слушает, говорит, что приносить двойки по русскому, когда у тебя мать филолог, позор. и вдруг бьёт меня по щеке — несильно. но я от страха отшатываюсь так, что задеваю этажерку и ору: «Буду, буду получать двойки! Каждый день! Назло тебе!» Я валюсь на диван, рыдая, а мать выходит из комнаты. я плачу долго, мне кажется, что час.
Достаю кляссер с марками, смотрю на них долго-долго: шесть марок с дятлами («България»), марка с голой женщиной — Венера. На кубинских марках — картины: всё коричневое, зелёное, вязкое.
... а если взять и потонуть в этом жутком, зелёно-коричневом? Пусть пиявки меня съедят, всю кровь из меня высосут. Я захлопываю кляссер. Не хочу этих марок, не хочу школы и матери не хочу. Я её «мамой» называть не буду, только «матерью». Или «мамашей», как у нас двоечник один. У него отец пьяница, механизатором работает, а мать доярка и дура страшная. И маленькая сестрёнка тоже дура. Про них все говорят, что они недоразвитые. Мать двоечника всюду в красных брюках ходит. И моя мать такая же дура и злая. Не люблю её.
Мама открывает дверь и зовёт меня на кухню. Она пытается объяснить, что да, она погорячилась, но и я должна понять. я киваю, не слушая. А если бы и слушала, то всё равно не поняла бы и не хотела понять. Раз меня бьют по морде, я никому ничего больше не обязана, и отцепитесь от меня.
… мама, почему я не смогу простить тебе эту пощёчину и другие — я знаю, они будут?..
Наверное, все люди в мире делятся на тех, кого били по роже, и на тех, кого не били, и эти две группы людей антиподы, может быть, даже ненавидят друг друга. Битые, даже если они злые, сильные, наглые, всё равно живут, словно в ожидании новой пощёчины. И часто бьют первыми — совсем не обязательно кулаками. А в небитых, даже слабых и робких, этого страха, этого ожидания удара гораздо меньше.
Через две недели я опять получила двойку по русскому. Снова наша Алла обозлилась на весь класс, на всех накричала и наставила кучу двоек без разбора. Я захожу в наш подъезд, поднимаюсь на пятый этаж, но не звоню в квартиру, сажусь на скамейку, что стоит в подъезде, сижу долго-долго, хоть мне и холодно. Господи, я не хочу, чтоб меня били. Я здесь буду сидеть до вечера, а если мать откроет дверь, я убегу в мороз, в сугроб убегу. Замёрзну там, превращусь в снежную бабу, в большую снежуху. И мне на голову наденут ведро, и глаза вывалятся, и вместо них мне вставят угольки, а вместо носа будет морковка. Весной я растаю, все пройдут по луже и никто не подумает, что это я.
… я никогда не подойду к двери. Никогда не позвоню. Никогда не открою. Господи, как холодно! Пальцы твёрдые, лицо твёрдое, даже ресницы задубели. Я никогда не буду больше мягкой. Ну ничего, я привыкну. Я и сейчас почти привыкла. только вот в туалет хочется. а что, если я напущу лужу прямо в подъезде, и она замёрзнет, и все будут подскальзываться на этом жёлтом льде, ехать носом вниз по ступенькам, и мать пускай тоже. Пусть все переломают руки и ноги, а я убегу.
Я подхожу к нашей двери и нажимаю на звонок. Открывает мама. Она уже в пальто и сапогах, собирается уходить. Я говорю, не глядя на неё: «У меня опять двойка. По русскому». И жду пощёчины. Но мать только вздыхает: «О! Господи, опять! Поешь и сразу садись за уроки. Я, когда приду, тебя проверю».
Я беру холодную котлету и ем её без хлеба, запивая молоком. Беру маминого Сименона, там в названии «орешник», и читаю до вечера. Мне нравится читать взрослые книги и не нравится смотреть взрослые фильмы — кажется, что в них все слишком машут руками, слишком таращат глаза и слишком орут про любовь.
Читать дальше