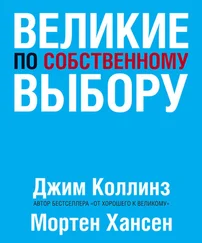— Можно сделать новый нос — из пластмассы, он ничем не будет отличаться от настоящего, так ведь? — говорила она, хлопая его по плечу. — Кстати, а что мы будем делать, когда ты выйдешь из тюрьмы?
Но Сливную Пробку не так-то легко было направить в новое русло. Вскоре Стинне поняла, что ей уже мало просто подбадривать его, нежно гладить по голове и шептать ласковые слова в половинку уха. Нет, Стинне настигло чувство утраты, зияющая дыра, которая все больше и больше засасывала ее, и мучила ее не только пустота на том месте, которое прежде занимал отец. Это было нечто другое, нарастающее опустошение, какая-то неопределенная тоска, голод, который невозможно было утолить. «Нет, ни за что! Только не Сливная Пробка, черт возьми! — думала она, сидя в поезде по пути домой. — Немолодой человек без носа! Боже, я этого не переживу!» Но было уже поздно, и тоска ее стала причиной появления странных видений: Сливная Пробка в ее ночных снах, Сливная Пробка везде и всюду. Он лежал на нарах в комнате для посетителей хорсенской тюрьмы с взлохмаченными волосами, а ее попытки взбодрить его становились все более и более неловкими. Она высказывала жаркие обвинения, хватала его за рубашку. Однажды днем плюнула ему прямо в лицо, а в другой раз сказала, что лучше бы он умер на горном склоне.
— Да прекрати же ныть! — крикнула она в конце концов, ударив его в грудь. — Разденься, веди себя как мужчина и сделай это со мной!
Впервые со времен горы Блакса на лице Сливной Пробки можно было заметить усмешку, которая пробилась сквозь недоверие и безграничное удивление: «Что? Это она мне говорит?» Потом он широко улыбнулся: его яйца мороз, во всяком случае, не тронул.
Бабушка стоит на углу Тунёвай и машет рукой. Бабушка бежит к следственному изолятору в Осло, хотя Аскиля уже отправили в Германию…
За многие годы было рассказано много историй, но с той ночи, когда Лайла в ночной рубашке прибежала в дом на Тунёвай, чтобы рассказать, что случилось на вершине горы, о которой бабушка никогда не слышала, Бьорк перестала что-либо рассказывать, да никто и не призывал ее нарушить молчание. Ни Стинне, ни мне больше не хотелось слушать ее рассказы. С ними было связано что-то болезненное, и была в них какая-то искусственность. В то время никто из нас не осознавал, что все эти истории — клей, связывающий членов нашей семьи, потому что стоило им смолкнуть, как все начало распадаться, и постепенно нас разбросало по всему свету.
Должно было пройти около десяти лет, прежде чем Бьорк снова заговорила и начала посылать обрывки нашей истории в Амстердам по почте, но к каким-то сюжетам она по-прежнему не возвращается: к тому, как она потеряла старшего сына из-за безумной женщины. И что единственными бренными останками его стал костюм, который положили в гроб вместе с капитанской фуражкой папы Нильса, а также пачка розовых писем, которые ее внук в последний момент бросил в могилу. Он стащил их из шкафа, и, когда священник бросил в могилу горсть земли, они неожиданно полетели вослед розовым снегопадом. Бабушка не понимала, хотел ли внук тем самым показать, что признает историю любви, содержащуюся в письмах, или он чувствует ожесточение от предательства, которое они символизировали, но поступок этот вызвал некоторую сумятицу. Аскиль считал, что письма следует достать. Мама не хотела их трогать, для нее главным было — чтобы все как можно быстрее закончилось и можно было вернуться домой, а бабушка… она и не знала, что думать. Ее мир больше не был целостным. Люди умирали в неправильном порядке, и ощущение противоестественности происходящего не стало меньше, когда ее свекровь весом сто три килограмма встала из кресла-качалки, потребовала лосятины и начала готовить еду для убитых горем родственников, которые только что, стоя у могилы, ругались из-за пачки розовых писем. Но длилось это недолго — неделю спустя Ранди снова слегла…
Бабушка также не рассказывала никому о том, как она постепенно перестала общаться с мамой, когда та стала жить с молодым врачом и обратилась к Богу, которого отвергла после смерти Ханса Карло, и в конце концов уехала из Дании, чтобы выполнить свою миссию в земной жизни, взяв на себя заботу о сиротах мира. Уехала она, лишь когда мы со Стинне стали жить самостоятельно, но бабушка все равно не могла понять ее. Она видела крестик на тонкой серебряной цепочке, сверкавший на шее мамы. Она видела и те засосы, которые оставлял на шее молодой врач. И она слышала мамин рассказ о той ночи, когда Бог вернулся в ее жизнь, но для бабушки Бог всегда был чем-то внутри людей, а не разъезжающим на мотоцикле пижоном, которого она представляла себе после Лайлиных рассказов. Кроме этого, она не могла понять, почему Лайла на похоронах чувствовала себя как в свое время фру мама.
Читать дальше