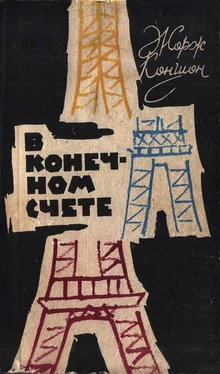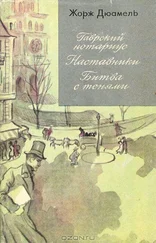— Я хочу только задать тебе два-три вопроса. Ты помнишь первый прием, который устроил Драпье, когда пришел в банк?
— Признаюсь, не очень. Кажется, мы оба тогда основательно выпили. А разве там произошло что-нибудь из ряда вон выходящее?
— Нет. Ничего из ряда вон выходящего. Но именно тогда нас и слышали.
— Что слышали?
— Помнишь, ты мне сказал, что не сможешь по-настоящему уважать человека, который никогда не станет вмешиваться в то, что его не касается.
— О ком шла речь?
— О некоем Этьене и о роли, которую он будет играть в банке Драпье.
— Возможно. Это на меня похоже. Я вполне мог это сказать, но не берусь утверждать, что сказал.
— Ты не мог бы засвидетельствовать это?
— Зачем? Зачем это надо? — спросил Филипп и, залпом осушив свой стакан, поставил его на камин. — Всякий раз, когда ты нуждался в моей помощи, я был к твоим услугам («Когда? Что ты имеешь в виду? Разве я когда-нибудь обращался к тебе за помощью?»). Не понимаю, черт побери, куда ты клонишь, но можешь быть уверен, что ради тебя я готов засвидетельствовать все что угодно.
— Но ты мог бы засвидетельствовать, что эту фразу произнес именно ты, а не я?
— А был при этом кто-нибудь еще? Я хочу сказать, не присутствовал ли кто-нибудь при разговоре?
— Не думаю.
— Очень возможно, что это сказал я. Не помню. Решительно не помню.
— Это не так уж важно, — сказал Марк, — но я прошу тебя, постарайся вспомнить.
— Хорошо, хорошо. Я попытаюсь. А я думал, ты собираешься поговорить со мной о том, что произошло сегодня утром.
— Об этом я и говорю.
— Кто-нибудь привел эту фразу?
— Да, привели и ее.
— И ее приписали тебе? Для того, чтобы тебе повредить?
— Вот именно, — сказал Марк. — И я хотел точно выяснить, как обстояло дело.
— На случай, если об этом опять зайдет речь?
— Вот именно. Тогда я скажу, что мне казалось, будто эту фразу произнес ты, но что ты об этом не помнишь. Или что я ошибался, что ее произнес я, кто угодно другой, только не ты. Или, наконец, что она вообще не была произнесена.
— Это было бы лучше всего, — сказал Филипп. — А действительно, была ли она произнесена?
— Это не доказано.
Филипп вздохнул.
— Неужели ты потерял ко мне всякое доверие?
— Не знаю, — сказал Марк. — Я отвечу тебе завтра.
— Почему?
Вернувшись в свой кабинет, Марк нашел письмо, которое ему принесли от Женера. «Все это ужасно, — писал Женер. — Я искренне хотел вас убедить не ставить себя под удар. Но и только. Вы не должны думать, что я преследовал какие-то другие цели, вы не должны даже допускать подобной мысли. С тех пор как вы ушли от меня, я совершенно подавлен. Я не нахожу себе места. Я вам звонил, но вас еще не было. И вот я вам пишу…»
Марк снял трубку и позвонил Женеру.
— Послушайте, — сказал Марк, — вы сделали выбор между Льеже-Лебо и Драпье. А я — нет. Что бы вы ни говорили по этому поводу, что бы ни говорил господин Брюннер, я не перешел на сторону Льеже-Лебо. Но вы, господин Женер, перешли на сторону Драпье.
— Послушайте, — сказал Марк, — Драпье выставил вас из вашего собственного банка. Почему? Вы так и не пожелали мне это сказать. Между нами как будто все ясно, но есть много темных вопросов такого рода. Разве вы хоть единым словом дали мне понять, почему вы ушли? Вы знали, кто такой Драпье, какие силы он представляет, и все-таки ушли. Без сопротивления.
— Послушайте, — сказал Марк. — Драпье вас выгнал из вашего банка, Драпье представляет все то, что вам ненавистно, против него вы боролись по крайней мере в течение многих лет, лучших лет вашей жизни, — вы сами мне это говорили, и я вам охотно верил, — и вот теперь вы соглашаетесь меня поддержать… Нет, нет, вы мне ничем не обязаны, я получил больше, чем дал. Кем я был? Вы ведь помните, кем я был!.. Вы соглашаетесь меня поддержать только при том условии, что я не скажу и не сделаю ничего такого, что могло бы даже не повредить Драпье, а хотя бы бросить на него малейшую тень. Я не понимаю этого. Я чего-то здесь не понимаю. Не говорите мне опять о моей карьере. И не говорите, что вы заблуждались, но у вас были самые благие намерения. Вы слишком умны. Мне наплевать на мою карьеру. Считайте, что я поставил на ней крест.
— Послушайте, — сказал Марк, — вы очень умны. Быть может, завтра я буду думать о вас много плохого, но я всегда буду помнить наши долгие беседы о судьбах мира. Я считал вас самым умным, самым проницательным человеком на свете, хотя это может показаться вам странным, хотя я подчас не соглашался с вами и иногда вас потом опровергали события, — и не только самым умным, но и самым справедливым, самым благородным человеком. Вы были в моих глазах либеральным финансистом — не таким, каковы в действительности либеральные финансисты, не таким, как те, которых можно встретить в клубах вроде «Ламет» и которые пожизненно носят это звание, а таким, каким должен быть либеральный финансист, если, как я тогда думал, это не просто вымышленное понятие. И если вы когда-нибудь полагали, что все, что я делал, например работал по ночам, приходил в банк по воскресеньям, я делал только ради карьеры, то вы ошибались. Я делал это также ради вас, из величайшего, непоколебимого уважения к вам. По-моему, я никогда не говорил вам этого, но я вас уважал и восхищался вами. Благодаря вам, даже когда мне приходилось заниматься самыми неприятными вещами, неизбежно связанными с нашей профессией, мне всегда казалось, что я продвигаюсь вперед и выше. Я даже преодолел чувство стыда, которое прежде всегда испытывал, когда мне приходилось иметь дело с деньгами. Мне это было нелегко, но я этого достиг. Я дошел до того, что мне доставляло удовольствие подсчитывать… Теперь, когда я вижу, какой я проделал путь и как я был одинок, мне становится страшно. Нет, нет, я не устал, я знаю, что говорю… Я был уверен, я ни минуты не сомневался, что вы всегда будете со мной. И я могу вам признаться: я свыкся с мыслью умереть в шкуре старого либерального клоуна. Но самое тяжелое — жить в этой шкуре.
Читать дальше