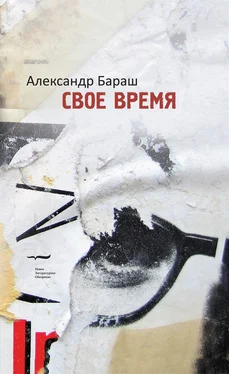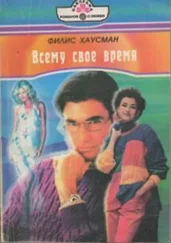В общем, видеть Пригова – что происходило, при тогдашней интенсивности «наших» литературных вечеров, выставок и концертов, как минимум еженедельно – это была школа интеллектуальной и личностной провокации думать, держать форму, не идти на компромиссы с депрессивностью в любом виде. В нем, казалось, не было ничего СОВЕТСКОГО, было много разного, но – ни малейшего отзвука клаустрофобии принятия готовых форм ни в социальном, ни в психологическом, ни в художественном смысле.
Наиболее ценное в том, что он сделал, связано скорее всего с этим «беляевским» миром: пространством частной жизни, антропологическим измерением. Пригов создал в своем роде Энциклопедию Маленького Человека времени позднего СССР. Тезаурус житейских ситуаций: улица, магазин, очередь, готовка еды, сидение у окошка. Остановленная радуга мыслей и чувств, которые обычно проскальзывают по ходу существования, проблескивают на внутреннем горизонте «и плачут, уходя». А здесь они сохранены: «Только вымоешь посуду / Глядь – уж новая лежит / Уж какая тут свобода / Тут до старости б дожить / Правда, можно и не мыть / Да вот тут приходят разные / Говорят: посуда грязная – / Где уж тут свободе быть?»
Точность описания вызывает инсайт узнавания, опознания себя. И чувство освобождения: психотерапевтический эффект, когда травматичное проговорено – пройдено. В его стихах нет депрессии, тоски, а чаще всего тихое веселье, какое-то счастливое, восторженное отношение к любому предмету наблюдения. Более того, эти стихи, «будничные», «заземленные» – всегда со сквозняком, призраками, как на спиритическом сеансе, и вкрадчивым шепотом (внутренний голос?) из других сфер: «Когда я помню сына в детстве / С пластмассовой ложечки кормил /А он брыкался и не ел / Как будто в явственном соседстве / С каким-то ужасом бесовьим / Я думал: вот – дитя, небось / А чувствует меня насквозь / Да я ведь что, да я с любовью / К нему». Иррациональное ежесекундно возможно – «праздник, который всегда с тобой». При этом, будучи открыты вторжениям любых монстров и фантазмов, его стихи не садистичны, не грубы – а, экзотично для времени и места возникновения, нежны… в какой-то степени даже чопорны и целомудренны. Совсем мало обсценной лексики, и функции ее маргинальны, локальны: на уровне конкретного стихотворения. Автор, пусть и «мерцающий», не ассоциируется, не отождествляется с источником насилия. Он занят, увлечен совсем другим. Скажем, в цикле «Книга о счастье (в стихах и диалогах)» рефрен «Трупик, наверное» не пугает и не шокирует, основное ощущение – праздничное: от виртуозно уловленного частного и общего чувства беспокойства, тревоги, связанного и с запахами, «непонятно откуда» берущимися в «местах общего пользования», и с опасением, что вот в любой момент случится какая-нибудь пакость или, не дай бог, что-то обрушится, выползет, выпадет, выявится, будь то велосипед со стены в коммунальном коридоре, крыса из унитаза, сумасшедший с кирпичом на улице или беседа в «первом отделе» на работе. Здесь отыскивается разрешение мучившего вопроса, но на более универсальном уровне, чем в стихотворении: источник тревоги вербализуется, и таким образом «вскрывается преступление», находится «трупик» – а тот трупик, о котором идет речь в тексте, был, как мы теперь ясно знаем, из навязанного воображаемого…
Страшно жаль, что по ряду обстоятельств, и политических, и персональных, для нескольких поколений, в том числе моего, остались тогда неведомы Красовицкий, Чертков и весь этот круг поэтов. Там была традиция говорения от первого лица, с просвещенностью, масштабностью, месседжем и волшебством, которая могла бы стать альтернативой «блуждающему» или отсутствующему автору.
Концептуалисты были зубодробительно-хороши, но что делать, если и сам чувствуешь тупик, невозможность выхода из клаустрофобии любых существующих форм говорения – и при этом так же ясно осознаешь, что только это – твое, ты?
Условия выживания нашего вида литературных существ оказались довольно экстремальными. Но вот где-то между Набоковым, Бродским и «московскими концептуалистами» пульсировала исходная точка, с которой начиналась собственная траектория.
Были еще и близкие параллельные траектории. Параллельные – по времени, близкие – потому что иногда пересекались.
С одной стороны, Николай Байтов, с другой Юлий Гуголев… С разных сторон, поскольку их стилистика, и художественная, и «житейская», поведенческая, были очень несхожи – и при этом близки мне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу