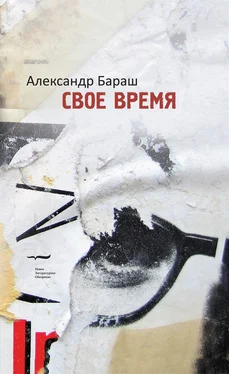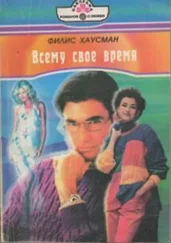На морском дне памяти луч сфокусированного внимания высвечивает раковину с окаменевшим моллюском – тогдашним отношением к Некрасову. И момент фиксации отношения: на вечере Некрасова в салоне Наташи Осиповой, полутемная длинная комната, плечи и затылки соседей, он у настольной лампы, манифестированно мямлит … Второй пульсирующий несколько ядовитым светом стоп-кадр – антракт или после чтения в салоне Чачко. Замедленное кружение публики, Некрасов стоит в несколько зажатом, деревянном полуповороте, спиной ко мне, о чем-то, видимо, как это бывает, тактически или стратегически задумавшись посреди «тусовки», со всей сложностью соотношений с разными людьми и необходимостью быстрых и точных реакций, – и штаны застряли у него между ягодицами… Чего молодой поэт «не простил» взрослому , старшему? Примерно то, чего не прощают учителю злые дети , – как бы неловкость, слишком человеческое . Максимализм обернулся мелочностью.
Некрасов оставался собой и тем же – одним из лучших поэтов последнего полувека, чья роль в поэзии близка к роли Вен. Ерофеева для прозы. Ну, а я через некоторое время пересмотрел, как старый черно-белый фильм, свой юношеский штамп и описал то, что увидел, в статье в «НЛО»: «Речь у Всеволода Некрасова взрывается смысловыми фейерверками, цветет удивлением перед жизнью, жива нежнейшими ощущениями – в бесконечно малых синтаксических и смысловых единицах. Свобода есть – и ничто не очевидно; любая фраза, проговорка, фразеологический оборот, синица в руке оказывается, оборачивается – журавлем в небе, и ты вместе с ним, и можешь улететь из квартиры, из класса, из конторы, из любого коридора, из казенного дома советской жизни.
полно места
полно места
полсвета
–
* А если и после лета –
после этого –
Этот эффект распахивания мира возникал и от текстов Рубинштейна. Пласты общего словесного потока, литературные реминисценции, разные жанры разговорной речи, куски газетного или бюрократического новояза сталкивались, наслаивались и рушились или зависали в медитативном стоп-кадре… с очень значимой функцией пауз, промежутков, разломов, пустот (что выявлено и «технически», пластически – в перебирании карточек между единицами высказывания…) – и жизнь опять представала странной, закутанной в цветной туман… зазывающей к разглядыванию, вживанию, соблазняющей пониманием, познанием. «Ученик сел и стал думать».
Как-то мы были в гостях у Пригова. Домашнее общение, не только близкое, но и «светское», было гораздо бóльшей нормой, чем сейчас, – других пространств над-советской литературной жизни сначала не было, с середины 1980-х это стало постепенно меняться, но процесс перехода к клубам и кафе занял еще какое-то количество лет. «Мы» – это тоже с Байтовым, «они были тогда не разлей вода», как написал потом поэт Александр Левин, близкий знакомый с тех же времен, сам бывший тогда в таком же тесном союзе с Владимиром Строчковым, постоянным участником нашего салона. Аутентичней было бы сказать, впрочем, «не разлей чай» или «не разлей “Агдам”» (сорт недорогого сухого вина).
Минут десять пешком от метро «Беляево», заповедника тогдашнего московского миддл-класса… Пригов встретил нас – в милицейской фуражке над горящими и, наверно, светящимися ночью глазами санитара сумрачного леса советской поэзии. – Милый жест, опредмеченная в авторе цитата из его хита того времени про «милицанера»: «Да он и не скрывается». Фигура речи на время вселилась в фигуру автора. Промелькнула карнавальная подкладка почти любых способов общения, коммуникации, со-общения –
Содержания разговоров не упомню, «о главном» не говорили. Самое сильное впечатление было одновременно визуальным и «жизнестроительным», несло в себе схожий набор элементов с приговскими художественными и литературными объектами. То был артефакт на стене в коридоре: там, где обычно в других квартирах висели пейзажи, фото Эйнштейна, Нефертити (прижизненное ☺) и Хемингуэя или большие календари с картинками. На этом месте мерцала в полутьме, как в штабной землянке, – Карта Литературных Сил со званиями, вертикальной иерархией и связями «по горизонтали». Оставалось только приложить ладонь к груди, где в кармане рядом с сердцем лежал, как членский билет, плеер с Нобелевской речью Бродского, и прищелкнуть каблуками серых в яблоках полусапог из заветной посылки с обмундированием офицера генштаба андерграунда (купленных на барахолке в Хельсинки убывшим членом «Эпсилона»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу