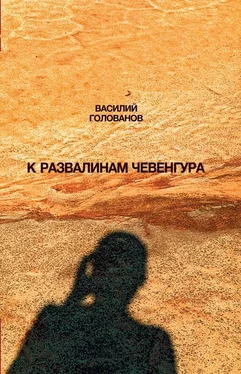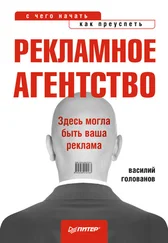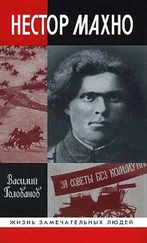По рассказам моей матери, один из весьегонских чернокнижников Титушков, живший на Кузнецкой улице, возвратясь из Санкт-Петербурга в 1860-е годы, сделал для себя крылья из пузырей. Наполнил их каким-то вонючим светильным газом. Крылья привязал на грудь и под мышки. Перед этим будто наварил пива, угощал собравшийся народ, многие плакали, другие посылали с ним поклоны умершим родителям, детям. Человек собирался улететь на небеса… Титушков с привязанными крыльями взошел на свои высокие ворота, покрытые крышей на два ската. Дом его был двухэтажный. Последний раз раскаялся Титушков перед собравшимися, сняв черный картуз, захлопал крыльями… Толпа оцепенела… А новоявленный Икар свалился на землю и сломал ногу. Полет не состоялся…
Крещенская ярмарка
Раньше эта богатая ярмарка много поддерживала в городе народа. Немало мещанских семей только и жили доходами с ярмарки, сдавая под постой квартиры, дома, конюшни, амбары, скотные дворы. Бывало, недели за три до открытия ярмарки потянутся обозы по Бежецкой и Ярославской дорогам. Да лошадей по 300—500. И чего только не везут! Кованые лошади дорогу выбивали огромными ухабами, где иногда в снежные зимы помещается по 2—3 подводы так, что и дуги не видно. Часто за первым таким ухабом следовал второй, третий, числом до десяти подряд. Вот и едешь, как на волнах, сжимая крепко зубы, чтобы не откусить язык… Везде у трактиров, заезжих дворов, больших домов стояли возы, отдыхали лошади, продавалось сено, вырубался лед у колодцев. В избах сплошь отдыхал народ на полу, полатях, печах, на лавках. В переднем углу не сходил со стола самовар, бублики, ситник и соленая рыба. В трактирах добавлялись щи из кислой капусты и крошева, мясо (баранина), студень и водка по потребностям и температуре на улице.
Ярмарка была настолько велика, что трудно перечислить привозимые товары и прибывающих за эти две недели продавцов и покупателей. Однако укажем, что сюда с севера приезжали купцы из Архангельска, Онеги, Повенца, Петрозаводска, Каргополя, Вологды, Пошехонья, Череповца, Кириллова, Белозерска, Вытегры, Олонца, Тихвина, Боровиц, Ладоги, Устюжны.
Все Приволжье до Нижнего Новгорода, а именно – Ярославль, Кострома, Ворсма, Павлово, Арзамас, Владимир, Суздаль, Посад Сергиев, Москва, Кашин, Калязин, Кимры, Торжок, Бежецк, Красный Холм.
Мы, например, покупали на год: свечи стеариновые, сальные, керосин (позднее, в 70-х годах, керосину было мало; была только его производная – шандарин), мыло бельевое мраморное Жукова, деревянное масло, посуду, тарелки, миски, стаканы, блюдца, чайники, блюдца деревянные, скатерти, коврики, ситец, сукно, платки, два ящика спичек, ящик лампового стекла, ящик оконного, белозерского снетку две корчаги (большие глиняные сосуды), сахару 5 головок, 5 фунтов чаю. Для поста приобретали: пастилы 2 ящика, 6 бочонков халвы, 10 фунтов изюму; для гостей – орехов, меду бортик, вязики, разных круп.
Приезжал сюда и заурядный крестьянин, и помещик, и разночинец, и кустарь, и охотник, и рыболов. Карелы и русские, инородцы с Севера. Но главный праздник был, конечно, для купечества. Ярмарка – это фортуна. Она способна была перевернуть всю торговлю и жизненный уклад целых купеческих семейств. Могла сразу обогатить, или разорить, или оставить в равновесии. Ярмарка выдвигала способных торговцев, определяла размер нового кредита, показывала женихов и продавала невест – как за приданое, так и за наличный расчет. Еще с нового года начинали хлопотать старики купцы. Приготовляли счета, сверяли цены, мозговали с помещениями, подсчитывали ожидаемые барыши и ремонтировали свои волчьи и лисьи тулупы с огромными воротниками, примеряли красные кушаки и замшевые теплые перчатки. Барышни прилаживали фартуки, подучивались на счетах и чаще гадали на святках о женихах. Святочный вечер накануне Крещения все говели со святой водой, которую бережно несли из церкви домой в хрустальных графинчиках и фарфоровых вазах. Ярмарка была в кварталах ближе к Троицкой церкви, на берегу Мологи, и открывалась 6 января. Под ярмарку занималось до 15 городских кварталов. Уломский гвоздь в 2-пуд. бочонках стоял прямо на возах по Ярославской улице. Постное масло (льняное, конопляное, маковое) поступало из Ярославской и Нижегородской губ. Хмель привозили калужане. Два временных корпуса возводили под табак и спички. Как редкость, кроме серных спичек были и парафиновые, головки их были окрашены в разные цвета. Но шведских спичек совершенно не было. На Мытной площади – щебяной товар: бочонки, кадки, бортики, крестьянская мебель, плетеные корзины и гнутый обод, гнутые полозья. Рыба коренная (соленая) доставлялась в огромном количестве (более 15 000 пудов). Две трети ее привозилось осенью бурлаками по Мологе, а треть – гужем из Ярославля и Рыбинска перед самой ярмаркой: севрюга астраханская, осетрина, сазан, сельдь астраханская, сельдь шотландская и дунайская, килька (деликатес), икра паюсная. Отдельно продавалась готовая одежда, шорный товар (хомут, шлея, дуга), кожаные сапоги. Цена пары сапог была от З.50 до 8 рублей. Привозилось их до 1000 пар, из них больше крестьянских – тиманы. На Севере больше ходили в березовых и липовых лаптях. Шкура медведя стоила 3 рубля, кожа конская – 2.50. Валенки из Огибалова, Калязина и Бежецка. В иконных лавках – иконы лучшего письма в серебряных ризах, киотах, за стеклами. Чего только не было! Часы, кольца обручальные, серебряные ложки из Сергиева Посада и из Москвы (фирма Чернецова); стекольный магазин, бакалея, сортовое железо и скобяной товар. На соборной площади на козлах – церковные колокола, рядом – поддужные колокольчики и ботальца для скота. Строился большой балаган, где пили на морозе чай и горячий сбитень…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу