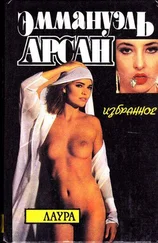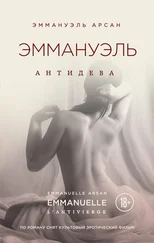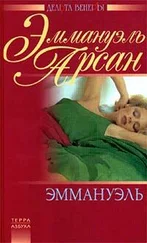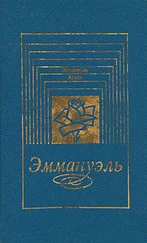А теперь? Самодовольный циник в его глазах, затхлый старикан.
Я помню. Я сам в молодости так считал. До чего несправедливой и жестокой может быть молодежь.»
Кошмар, что люди способны делать друг с другом.
И за это время уж одно-то я понял — невозможно выйти из истории, как бы тебе этого ни хотелось. Куда бы ты ни спрятался, обязательно подойдет какой-нибудь солдат, ткнет в тебя штыком и спросит: «Ты с нами или против нас?»
А тот, кто не с ними, тот всегда против. И вдобавок на тебя валятся все эти жестокости. Ну точно, как в сказке, что дедушка рассказывал, о старушке, которая собирала хворост в лесу. «Ежели хватит сил на эту веточку, хватит и на ту», говорила она. И под конец насобирала так много, что вязанка сломала ей спину.
Ты с нами или против нас?
Я с вами.
Тогда придется тебе выдержать и эту веточку, что зовется террор.
И ту веточку, и ту, и ту.
Пока тяжелый груз не сломает тебе спину.
Нет, не у всякого. Только у тех, у кого широкая спина и крепкая совесть, которая выдерживает большой террор — неужели именно они понесут на себе будущее?
И похоже, в поклаже у этого будущего окажется сколько угодно трупов.
А винят других. Посмотри на этих белых мясников и что они творят, нечего с ними миндальничать. Посмотри на этот красный сброд и их террор, перестреляй этих дьяволов, пусть они в лагере подохнут, отправить их в рабство в Германию.
«Сбродом» и «мясниками» называют они друг друга, и думают, что потом легче убивать врагов, они ведь уже не люди.
О том, что творили эти чертовы мясники, у меня просто нет сил вспоминать.
Но я не знаю, было бы ли лучше, если бы вышло наоборот — все это. Не знаю. Может, так оно и есть, как они говорили — что я в глубине души все лишь «благонамеренный гуманист». А может, это все религиозное, что я унаследовал от дедушки.
Хорошо, что я не говорю об этом с учителем. Он бы принялся болтать, что все относительно и нужно видеть историческую взаимосвязь, потом разродился бы какой-нибудь глупой шуткой, а после выкинул бы все из головы. Но я ведь не могу забыть.
Как мне хочется поговорить с Верой, на нее можно положиться. Она по крайней мере серьезная.
Во всяком случае с желудком у меня постепенно наладилось, и глаза больше не болели от дневного света. Какое-то время я бесцельно бродил по городу, может, ждал Солтикоффа. На то, чтобы опять столкнуться с Верой, я и надеяться не смел. И мне было немного боязно после того, что я пережил первый раз в гардеробе. Я ведь даже не знал, с кем встретился.
«В гардеробе», да, звучит странновато. Но я же понятия не имел, что это было — сон или реальность, или как это там называется. Я не знал, что и думать.
Как только я поправился, тут же вылил остатки чая из чайника, и тщательно его вымыл. Сперва я липкой лентой заклеил дверь гардероба и часто, лежа в кровати, трясся от страха, что из него вылезет какой-нибудь незнакомец. Ежели можно в одну сторону, можно и в другую, так я рассуждал. Но из гардероба никто не вылезал. И под конец я решил, что просто смешно валяться в кровати и ждать, ждать. Поэтому как-то утром, когда уже чувствовал себя здоровым, я спрыгнул с кровати, сорвал ленту и распахнул дверцу.
Там ничего не было. Ну да, старый чемодан со старьем и кучка грязных носков и трусов. Так что я не вошел в историю. А влип в историю с пыльным гардеробом, где хранился всякий хлам.
Вот так было дело.
А что мне предпринять, я не знал.
Как-то позвонил учитель и сказал, что мне надо бы поехать домой в Хельсингланд, проведать «своих» и немножко отдохнуть. Он говорил эдак снисходительно, точно с ребенком, или с сумасшедшим, или психически неполноценным, я прямо разозлился.
Но возможно, он желал мне добра.
Я слонялся по Уппсале и ничего не происходило. Возле винного магазина на Свартбекксгатан, как и раньше, шатались отверженные, и я представлял себе, как сейчас там, в яме возле риксдага, и из газет было ясно, что карусель продолжается крутиться, и все было до жути как всегда, и мне казалось, я схожу с ума.
Почему с этим проклятым миром ни черта не происходит! Что угодно, все лучше, чем эта мельница, которая мелет и мелет, что угодно, да, хоть взорвать все это дерьмо к чертовой матери. Я знаю, это анархизм и террор, но именно так я иногда чувствовал.
И тогда я поехал домой в Хельсингланд.
С одной стороны было немножко досадно, потому как я вроде бы сделал то, что велел мне учитель, а он мне порядочно надоел. / — — — / Но с другой стороны мне самому хотелось поехать домой, навестить своих и поглядеть, нельзя ли остаться там, да и кроме того ничего другого я придумать не мог.
Читать дальше