– Он умер в 1938 году в кинотеатре «Бижу», в Сан-Игнасио, – ответил я. – Он ходил в кино один. Ему и в голову не пришло снова жениться.
Он так и жил над калифорнийской лавчонкой, которая помогла ему сделать первый шаг в экономике Соединенных Штатов. А я к тому времени уже пять лет как жил в Манхэттене – и работал тогда художником в рекламном агентстве. Когда фильм закончился, зажегся свет и все пошли домой. Все, кроме отца.
– А что за фильм? – спросила она.
– «Отважные мореплаватели», со Спенсером Трейси и Фредди Бартоломью[10], – ответил я ей.
* * *
Одному Богу известно, что отец мог вынести для себя из этого фильма про рыбаков, промышляющих треску на севере Атлантики. Возможно, он умер раньше, чем успел что-либо увидеть. Если же какую-то часть он все же посмотрел, то отметил, вероятно, с печальным удовлетворением, что показанное не имело совершенно никакого отношения ни к чему, что он когда-либо видел, и ни к кому, с кем он когда-либо был знаком. Он бережно собирал доказательства того, что планета, на которой он жил и которую любил в детстве, исчезла безвозвратно.
Он таким способом хранил память о друзьях и родственниках, жертвах резни.
* * *
В каком-то смысле можно сказать, что он был сам себе турком, втаптывал сам себя в грязь и плевал сам на себя же. Он вполне мог бы выучить английский и стать уважаемым учителем, прямо там, в Сан-Игнасио, мог бы снова начать писать стихи, или переводить любимых армянских поэтов. Но это было бы для него недостаточно унизительно . Единственное, что его устраивало – это стать, со всем своим образованием, тем, чем были его отец и дед, а именно сапожником.
Он хорошо знал это ремесло, к которому был приставлен еще мальчишкой, и к которому мальчишкой буду приставлен и я. Но вы бы слышали, как он жаловался ! Впрочем, жалел он себя на армянском, так что понимали его только я и мать. Кроме нас, ни одного армянина нельзя было найти в радиусе ста миль от Сан-Игнасио.
– А где тут Вильям Шекспир, ваш величайший поэт? – приговаривал он за работой. – Может, слыхали о таком?
Шекспира, в армянском переводе, он знал наизусть, и часто цитировал. «To be or not to be», например, было для него « Линэл кам чэ линэл ».
– Если услышите, что я говорю по-армянски, вырвите мне язык, – приговаривал он. Таким было наказание, установленное турками в семнадцатом веке за слова, сказанные на любом языке, кроме турецкого: вырванный язык.
– Кто это такой? Как я здесь оказался? – приговаривал он, когда мимо по улице проходил ковбой, или китаец, или мексиканец.
– Скоро ли в Сан-Игнасио поставят памятник Месропу Маштоцу? – приговаривал он. Месроп Маштоц придумал армянский алфавит, непохожий на все другие, за четыре сотни лет до рождества Христова. Кстати, армяне были первым народом, принявшим христианство в качестве официальной религии.
– Миллион, миллион, миллион, – приговаривал он. Этим числом оценивают обычно количество армян, убитых турками во время резни, от которой моим родителям удалось ускользнуть. Тогда это были две трети армян в Турции, и примерно половина всех армян вообще, во всем мире. Теперь нас шесть миллионов, включая и двух моих сыновей, и их трех детей, которые ничего не знают и знать не желают про Месропа Маштоца.
– Муса-даг! – приговаривал он. Так называлось одно место в Турции, где несколько армянских ополченцев удерживали турецкую гвардию сорок дней и сорок ночей, прежде чем погибнуть – примерно в то время, когда мои родители, и я с ними, в животе матери, прибыли в полной безопасности в Сан-Игнасио.
* * *
– Спасибо Вартану Мамиконяну, – приговаривал он. Так звали одного великого армянского героя, предводителя армии, разгромленной персами в пятом веке. Но тот Вартан Мамиконян, которого имел в виду отец, держал обувное дело в Каире, многоязыком деловом центре Египта, куда родители бежали от резни. Именно он, переживший более раннюю резню, убедил моих наивных родителей, повстречав их по дороге в Каир, что их ждут молочные реки в кисельных берегах, если только они направятся – кто бы мог подумать – в Калифорнию, в Сан-Игнасио. Впрочем, об этом – в другой раз.
– Если кто-то найдет смысл жизни , – приговаривал отец, – пусть оставит при себе. Мне уже все равно .
– Никакого дурного не слышно там слова, и ни облачка в небе весь день, – приговаривал он. Это, разумеется, припев из американской песни «Мой дом на просторе» [11]. Отец перевел эти слова на армянский и считал их идиотскими.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



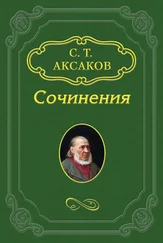



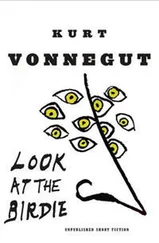
![Курт Воннегут - Вампитеры, фома и гранфаллоны [litres]](/books/397997/kurt-vonnegut-vampitery-foma-i-granfallony-litre-thumb.webp)