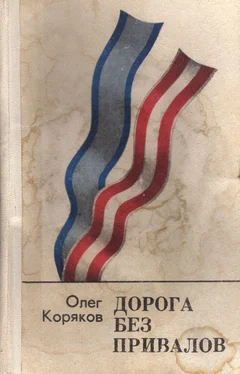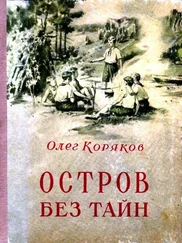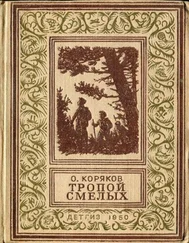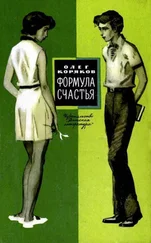Конечно, в Еленке Дерябиной отразились воспоминания писательницы о своем детстве, хотя, на мой взгляд, никто, порой даже сама автор, не может сказать точно, что вот это было, а это додумано, это действительный эпизод из детства, а это лишь авторское представление о детстве. Воображение и домысел нередко настолько «овеществляются», что их трудно отделить от реального, в действительности бывшего. Но это и неважно. Важно, что писательнице удалось художественно воссоздать возникновение одного из сложнейших явлений высшей человеческой деятельности. И я вижу в этом не просто очередную авторскую удачу, но и ключ к пониманию писательницей самого процесса художественного творчества как отражения объективного мира.
Для нее жизнь — первооснова творчества. Еще в юности, испытав неодолимую потребность отображать жизнь, она жадно впитывала в себя все, чем дышал окружающий мир. Но к тому времени, когда созрело и не могло не вылиться, не выплеснуться ее первое произведение, Ольга Маркова уже знала не только, «что» она скажет людям, но и «зачем».
С первых своих творческих шагов, с первой повести она прочно стала на позиции социалистического реализма. Ее творчество отдано народу и партии коммунистов, членом которой она состояла около сорока лет. Так называемые общечеловеческие вопросы в ее произведениях решаются всегда на четко выраженном социально-политическом фоне современной действительности или близкого революционного прошлого. Каждое из крупных творений Ольги Марковой, будь то повесть, роман или цикл рассказов, рождено требованием самой жизни, каждое по-своему актуально и даже, если хотите, злободневно. Это может происходить лишь с художником, чьи помыслы слиты воедино с чаяниями партии и народа.
Не раз приходилось мне слышать, как Ольга Ивановна поет. Сказать, что она любит песни? Все мы их любим. Она живет песней. И поет она не только голосом — поет всей душой, песня пронизывает, кажется, каждую частицу ее существа. Песен она знает много, особенно старинных, и ведомы ей такие, о каких многие и слыхом не слыхивали.
Тяга к прекрасному? Но прекрасное разнолико. Писательница глубоко понимает и чувствует, скажем, красоту оперных арий, она отлично разбирается в живописи, влечет ее театральное искусство, но вот песня… к песне она припаяна сердцем. Оттого, что тяга в ней прежде всего не к прекрасному вообще, а к прекрасному народному — к тому, что народом создана и народу любо.
Ей не нужны «командировки в народ» для изучения его жизни — она к народу, как говорится, приросла пуповиной. Я, собственно, говорил об этом, когда касался содержания произведений Ольги Марковой. Сейчас — несколько слов о форме. Надеюсь, читатель простит мне такую разбросанность: эти частные заметки о творчестве Ольги Ивановны ни в коей мере не претендуют на литературоведческий анализ.
У каждого художника свой глаз. Недаром мы и говорим о своеобразном видении мира. Мир-то един для всех, но смотрим мы на него по-разному: все зависит от идейно-художественной позиции писателя. Эта позиция сказывается прежде всего в отборе явлений, фактов и словесного материала, которые используются художником. Один творит вещи монументальные, другой — лирические. Одному нужны краски резкие, броские, другому — мягкие, теплые. Один прорисовывает мельчайшие детали, другой пишет размашисто и общо. У каждого своя любовь, свое пристрастие, своя манера.
Для писателя важнее всего язык, словесный стройматериал. Присмотритесь к языку различных литераторов. Вениамину Каверину, например, свойственна интеллигентная речь. У Павла Бажова — самоцветная россыпь народных слов и понятий. Василия Аксенова, особенно на первых порах, привлекал жаргон столичной молодежи.
Прислушаемся, как говорят люди у Ольги Марковой:
«Вон Степан Ипатов жизнь прожил, а так ни разу и не вспотел!»
«Ох, и нежна! Как наждачная бумага!..»
«Мою крепку водочку на деньги не купишь: в сердце бродит!»
Вдова вспоминает о муже: «Хоть бы ребеночка оставил. А то не живу — тень отбрасываю, себя пестую».
Она же, выпроводив сожителя из дома: «Ну и все… шелкова трава следы заплетет…»
В цитатах, вырванных из контекста, речь персонажей несколько бледнеет, но такие примеры помогают понять отношение автора к слову. Ольга Маркова вовсе не ищет «лапотных», фонетически изуродованных выражений, речь ее героев во всех отношениях грамотна. Маркова строит эту речь, используя глубинные особенности народного языка — его метафоричность и афористичность. Оттого люди в ее произведениях говорят очень по-русски и ярко.
Читать дальше