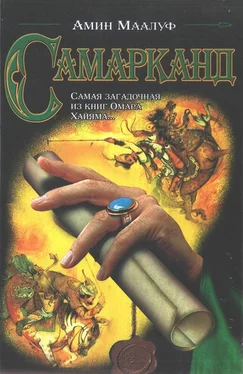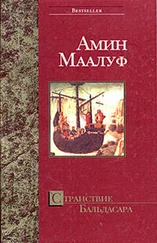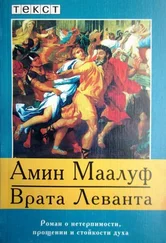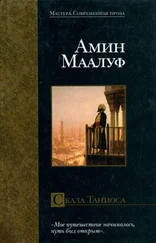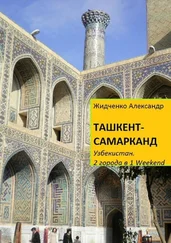Обезглавленный подпрыгивает, дергается и катается по сцене, после чего затихает. Затем на сцене появляется весьма странный субъект. Прежде всего бросается в глаза, что он весь в слезах.
Ба, да это же Баскервиль!
Я снова взглядом вопрошаю пресвитера, тот ограничивается загадочным движением бровей.
Говард одет в европейское платье, в котелке, и оттого, несмотря на трагическое действо, получается комический эффект.
Толпа стонет, ревет и, насколько я могу судить, ни один из присутствующих не улыбается. Кроме пастора, который наконец-то снисходит до объяснения:
— В этих погребальных представлениях всегда есть один европеец, и, как ни странно, он на стороне сил добра. Традиция требует, чтобы французский посол при дворе Омейядов был взволнован смертью Хусейна [75] См. примеч. 70.
, главного страдальца шиитов, и так горячо сочувствовал тому, что его самого предают смерти. Разумеется, не всегда под рукой есть европеец, тогда приглашают турка или светлокожего перса. Но с тех пор как в Тебризе появился Баскервиль, только он и зван на эту роль. Исполняет он ее отменно. И плачет взаправду!
Тем временем человек с саблей вернулся на сцену и стал шумно скакать вокруг Баскервиля. Тот застыл на месте, щелчком сбросил с головы цилиндр — светлые волосы были тщательно уложены на косой пробор — и медленно, как кукла, стал падать — сперва на колени, затем навзничь. Луч света выхватил его детское заплаканное лицо. Чья-то рука бросила в него горсть лепестков.
Я перестал слышать вопли и стоны и, устремив взор на своего друга, со страхом ждал, поднимется ли он. Мне казалось, что спектаклю не будет конца. Поскорее бы встретиться с Баскервилем!
Уже час спустя мы сидели в миссии за столом и ели суп с зернами граната. Пресвитер оставил нас одних. Мы оба были смущены. Глаза Баскервиля были еще красны.
— Я медленно возвращаюсь в свою западную душу, — произнес он извиняющимся тоном с грустной улыбкой.
— Не торопись, век еще в самом начале.
Он кашлянул, поднес чашу с горячим супом к губам и вновь ушел в себя. Некоторое время спустя он повел рассказ:
— Когда я сюда приехал, я все никак не мог понять, как это так — бородатые рослые мужчины убиваются по поводу преступления, совершенного тысячу двести лет тому назад. А теперь понимаю. Персы живут прошлым, потому как прошлое — их родина, а настоящее — чужая страна, где ничто им не принадлежит. Все, что для нас символизирует современную жизнь, освобождение личности, для них — символ иноземного владычества: дороги — это Россия, рельсы, телеграф, банк — Англия, почта — Австро-Венгрия…
— …а преподавание наук — господин Баскервиль из пресвитерианской миссии, — закончил я.
— Верно. Какой выбор есть у жителей Тебриза? Отдать сына в медресе, где он десять лет будет жевать одну и ту же жвачку из непонятных фраз, как и его предки еще в двенадцатом веке, или привести его ко мне, где он получит образование, не отличающееся от американского, под сенью креста и звездчатого флага. Мои ученики со временем станут самыми лучшими, изобретательными, полезными в своей стране, но как помешать другим считать их вероотступниками? С первых дней своего пребывания здесь я задавался этим вопросом и только во время одного из таких вот представлений нашел ответ.
Я смешался с толпой, вокруг меня раздавались стенания. Увидя эти несчастные заплаканные лица, глядя в эти полные ужаса глаза, я проникся всею обездоленностью Персии с ее истерзанной душой, не снимающей траур. Я и не заметил, как слезы сами полились у меня из глаз. Зато заметили другие, поразились и подтолкнули меня к сцене, поручив роль посланника. На следующий день ко мне пришли родители моих учеников, счастливые тем, что отныне знают, что отвечать тем, кто их упрекает: «Я доверил сына учителю, оплакивающему имама Хусейна». Кое-кого из местных священников это раздражает, их враждебность объясняется моими успехами, они предпочитают, чтобы иностранцы оставались иностранцами.
Теперь я лучше понимал своего друга, но все же был настроен скептически.
— Так, значит, по-твоему, решение проблем Персии в том, чтобы смешаться с толпой плакальщиков?!
— Этого я не говорил. Слезы — не выход. Но и не уловка. Это всего лишь искренний жест сострадания, наивный и беззащитный. Нельзя принудить себя лить слезы. Единственно важное — это не относиться с презрением к бедам другого. Когда они увидели, что я плачу и не взираю на их святыни с высоты своего безразличия, то тут же пришли ко мне и доверительно сказали, что плакать бесполезно, что Персия не нуждается в плакальщиках, своих хватает, и что лучшее, что я могу для них сделать, — это дать сынам Тебриза современное образование.
Читать дальше