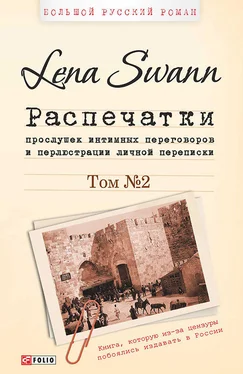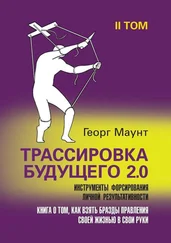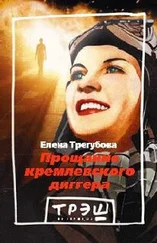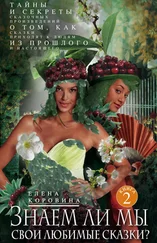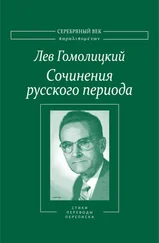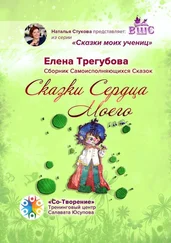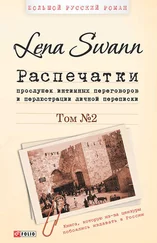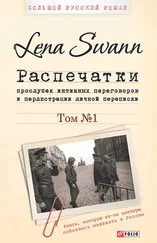Зато в милом, молчаливом, чересчур прямолинейном поселке Булдури, где закатное солнце разжигало в лежачей хвое тут и там, между корабельными, красными, некогда янтароносными стволами, яркие неожиданные ржаво-медные, цве́та чернеющих старинных монет, хрусткие дорожки, — на полдник пахло сладчайшей сказкой детства: реституцией. Елена выведывала у местных: кто из жителей поселка только что вернулся из вынужденной эмиграции, и решительно шагала по названному адресу.
А Анастасия Савельевна, как могла, тормозила сзади, заливалась густой краской и мучительно ругалась («Ленк, да ты что, опупела, что ль, а? Я с тобой не пойду! Хочешь, чтоб нас с тобой побили?! Мы же для них оккупанты!») — и испуганно шла прятаться за кустами, когда Елена, несмотря на все ее протесты, все-таки поднималась на крыльцо к совершенно незнакомым людям, стучалась, ей отпирали дверь, и она представлялась.
— Здравствуйте, я журналист из Москвы. Честно говоря, я вообще-то не журналист еще… Но мне просто очень интересно, вы не могли бы…
А потом, когда их приглашали войти в запущенный, полуразвалившийся старый дом — мать подхватываема бывала под руки, и вводима, и усаживаема за стол под платяным абажуром.
И седая дама с жесткими волосами на прямой пробор, только что вернувшаяся домой, навсегда, из Канады — рассказывала (не справившись вдруг с затянувшимся рыдающей рябью лицом), то по-английски, то на бедном немецком, то с неожиданным вкраплением слов по-русски, как во время второй массовой депортации, когда она, девятилетняя, гостила у бабушки здесь, в Булдури, ее мать — учительницу русского языка — забрали прямо на работе, а их рижскую квартиру экспроприировали. И как советские военизированные подразделения спецслужб везде устраивали облавы: латышей скидывали в эшелоны и отправляли в Сибирь, не разрешая даже ничего сообщить родным, не разрешая даже проститься — без всякой вины, с единственной виной «латыш»: потому что Сталин дал разнарядку депортировать столько-то десятков тысяч латышей, до такого-то числа. И как единственное, что ей осталось от матери — это смятая прощальная записка, которую та догадалась засунуть, скомкав, в свой башмак — и швырнуть из движущегося уже вагона: башмак, на который знакомые чудом наткнулись рядом с железнодорожными путями, рыская там тщетно в поисках хоть какой-то прощальной весточки от своих двоюродных, днем позже. И как записку тайком передали ей. И как они с бабушкой прятались. И как бабушку все-таки арестовали. И как саму ее потом подобрали — те же знакомые, что до этого подобрали материну записку. И как они узнали, что мать умерла в лагере от истощения и холода. И как Сталин, до своей смерти, успел выкинуть в ее судьбе еще одно дьявольское коленце: как посадили уже и приютивших ее знакомых. И как, после смерти Сталина, ее тетке из Канады, дознавшейся, наконец, о ее судьбе, удалось, самоотверженно продав всё, что у нее было, за чудовищную взятку достать для нее поддельные документы, что она — якобы ее дочь и якобы гражданка Канады — и по дипломатическим каналам спасти ее, вытащить ее к себе туда. И руками обирая какие-то одной ей видимые ниточки с льняной скатерти, а потом вдруг резкими движениями с тугим звуком расправляя желтоватое полотно на углах стола, седая дама из последних сил унимала штормящие морщины на лбу, щеках, в углах губ, подбородке, и зачем-то всё старалась улыбаться.
— Мам, может, если и в России начнется реституция, мы тоже заберем Матильдин домик назад? Будем в Минусинск летом ездить. Ну, когда тепло, разумеется! — шутила Елена, сидя, вечером, напротив Анастасии Савельевны в местной забегаловке с гордым названием Restorâns.
— Ты что, с ума сошла? Там же школа теперь. Минусинская школа! Это ж только прежде там фабрика какая-то кондитерская государственная, вместо экспроприированной у Матильды кондитерской, была. Я ж тебе сто раз рассказывала! А теперь уж… Что уж… Ты что?! Не у детей же дом отнимать! — взаправду испугалась Анастасия Савельевна. — Какой тебе Минусинск — ты вон и здесь задрыгла. Не ешь потому что ничего.
Анастасия Савельевна озиралась с некоторой оторопью — сзади от нее, у барной стойки, на высоких стульях сидели две школьницы с короткими пергидролевыми прическами, как будто сдутыми балтийским ветром на один бок. По какой-то особой, провинциальной моде, такой жанр, как юбки или джинсы, исключен на них был вовсе: только колготки — и едва-едва растянутые на задах свитера, по сравнению с длиной которых замшевая мини Ольги Лаугард смотрелась бы просто как монашеская ряса. Раскрашены обе соседки были с уездной щедростью: и над глазами, и под, и вокруг. Так что казалось, что у каждой девы под каждым глазом по крупному фиолетовому фингалу. Заиграла светомузыка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу