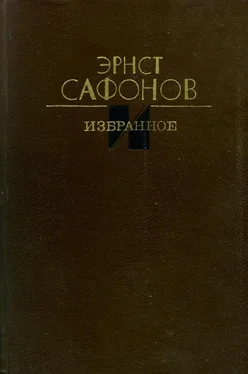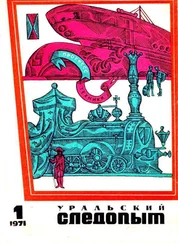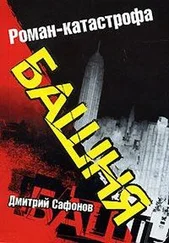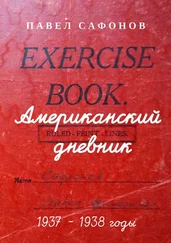— Мадам, война — дерьмо! — сказал он почти по-русски, еле перебарывая пьяную икоту. — Я социал-демократ, мадам. Война — дерьмо.
Он отщипнул от буханки корочку, пожевал ее и удалился в громыхающий свет горницы. Оттуда сразу же наплыла другая качающаяся фигура, натянула нетвердой тонкой рукой бечевку, на которой держалась занавеска, и бечевка лопнула, материя упала — возник долговязый.
— Мы есть это… — Он погрозил тете Сане пальцем. — Это… шнапс! Мы есть петь. Танцевать! Медхен? Девочка? Дай.
Тетя Саня поднялась с лавки. Во всей ее позе была готовность к пытке.
— Нет, — покачала она головой. — Нет. Девочка найн. — Подумала и добавила: — Она ушла к полицаю Грише.
— Полицай? — удивленно переспросил долговязый. — Гриша?! Она…
Он четко выговорил матерное русское слово и заржал от удовольствия.
А тете Сане судьба ли, роковой случай послали продолжение испытания.
Заскрипела на потяг снаружи входная дверь, дохнула холодным паром — вошел припорошенный Гришуха с винтовкой за спиной.
— С праздником, герр ефрейтор!
— Гри-ша?! Зер гут.
— Они Наталью требуют, — твердо вступилась тетя Саня, — а я объясняю: к тебе убегла…
Распрямилась, скрестив руки на груди, и ждала.
Гришуха поглядел на долговязого, на тетю Саню, натянуто улыбнулся и ответил:
— У меня она.
— Гут, — вновь заржал долговязый, хлопнул Гришуху по плечу, повторил дрянное слово, сопроводив его непристойным жестом. Сходил к своему столу, принес полную до краев кружку; Гришуха пил, и принудительно двигался его острый мальчишеский кадык.
— Значит, нету? — хрипло спросил он, когда остался один на один с тетей Саней. Покашлял, позевал, закурил — вроде и уходить ему не хотелось; объяснил: — Дежурить заместо ночного сторожа приставили.
На прощание повел глазами на горницу — немцы вразнобой тянули песню, — сплюнул на пол:
— Гранату в них, теть Сань, вот цирк будет.
— Чего придумал! Изба твоя, что ль?
И Вася впал в сон, успев про себя пожалеть тетю Саню, и последней его думкой было то, что Таля заморозится в подполье, а долговязый вот-вот подкрадется к ним и выстрелит — надо только спросонья не испугаться.
Мало, наверно, был он в забытьи, потому что до рассвета почувствовал толчок — печка под ним встряхнулась; совсем возле рванул взрыв, разлетелись стекла в рамах; немцы серыми и белыми тенями пронеслись через кухню — уже в сенях бешено застучали их автоматы. И опять грохнул взрыв, тягуче рассекая воздух; кто-то за стеной захлебнулся в томительном, стонущем крике; тетя Саня взобралась к ним на печку, навалившись на них, как наседка перед внезапным коршуном. А стрельба откатывалась за околицу, через пустую слепоту выбитых окон врывался пороховой ветер, и неясно звучали немецкие команды.
От грузовика осталась одна приблизительность — горелое перекрученное железо; помятый бронетранспортер лежал вверх колесами. Неизвестные, залетные партизаны во время нападения убили двух немцев. А у своей избы, разбрызгав по снегу красное, ткнулся в сугроб головой прирезанный Гришуха.
У немцев получалось быстро: согнали баб и стариков ставить на колеса бронетранспортер; раненый, с подвязанной рукой, фельдфебель выдал слепой Гришухиной матери солдатские сапоги с широкими голенищами и полмешка белой муки; в избу с уцелевшими стеклами, куда перебрался обер, доставили тех, кто подлежал расстрелу. Их было повели к колхозному сараю, что стоял чуть на отшибе, но подоспел обед; вернули заново к оберу, и солдаты потянулись с котелками к кухне. Обедали с час и лишь после этого затолкали пленных в сарай, обложили его соломой и подожгли.
Вкруг сарая немцы выстроились подковой, короткими очередями били в огонь, в безумные крики, оттуда доносившиеся.
Погибли:
красноармейская вдова Соня Полуянова, которая при начале ночного боя бросила в яму отхожего места два немецких автомата;
престарелый Тихон Иванов — как отец, у которого сын до войны был председателем сельсовета;
инвалид-сапожник Борис Круглов (Кругляк) — за саботаж, выявившийся в отказе поднимать увечный бронетранспортер;
четырнадцатилетний паренек Слава Пшеницын, бывшая звеньевая Варвара Хрычева, старики Гордеев и Соловейкин — как ранее бывшие на заметке.
…Вася забился под печку, потому что не нашел лучше места, где мог бы остаться никому не нужным.
Серафим в горячке бредил там, наверху; тетя Саня и Таля обнявшись плакали, и Васе хотелось, чтоб все в деревне, как он, спрятались под печку, и некого тогда будет расстреливать и сжигать. «А еще хорошо, — уговаривал он себя, — тихонечко умереть. Давай умру. И в огонь бросят — не так больно…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу