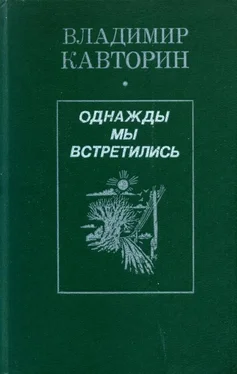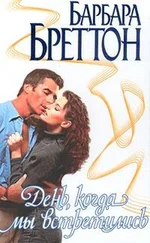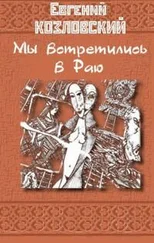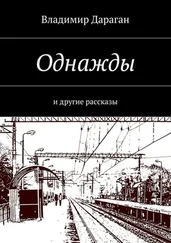— Послушай, — сказал он вдруг, — а тебе никто не говорил, что это шантаж?
— Чего-чего? — морщась, повернулась она.
— То, что вы устроили со своим Зыбченко, самый настоящий шантаж.
— О господи! О боже, какие слова! Жизнь прошла, милый, а ты кроме громких слов так ничему и не обучился. Помнишь, как он тебя обозвал тогда?
— Когда это? — удивился Вадик.
— После шестого класса, когда вы в лес сбежали. Ты-то сам вернулся, а его поймали и всыпали, конечно, чтоб не выдумывал.
— А, какие древности!.. Ренегатом, — Вадька улыбнулся. — Но это, учти, было вполне справедливо, ибо я отступил от учения великого Торо! — он торжественно поднял палец. — А ренегат и есть отступник.
— Надо же! — сказала Жанна. — Отступник! А я-то думала что-то желудочное, с похмелья…
Аркашка коротко засмеялся, прикрыв рот ладонью, почти хрюкнул.
— Ей-богу! Я же книжек ихних не читала, надо было уроки учить, матери помогать. Игорь один был такой гений, что и не уча пятерки хватал. Еще бы, всякие слова умел говорить! А я, если хочешь знать, всю ночь тогда проревела, боялась, что Вадьку посадят.
— Почему? — удивился Аркашка.
— Я у матери спросила, а она: «Ренегат, говорит, это вроде предателя».
Аркашка опять с готовностью хрюкнул.
— Вот так. Но твоя беда, Игореха, что отстал ты от жизни. Слова давно никого не пугают! И ты, Аркашик, не бойся, — сказала она как можно ласковей. — Приедет сегодня мой Зыбченко, мы с ним что-нибудь для тебя придумаем.
— Правда? — с готовностью вскинулся тот. — А кого Николай Федорович знает?
— Кого-нибудь да знает. А нет — так узнает!
— Здорово!
— Ишь, как ты обрадовался! — медленно проговорил Игорь. — А? Наметился, значит, эдакий маленький удобоупотребимый блатик, да?
Аркашка уставился на него, широко открыв глаза.
— Ну вот! Вот, видели? — кинулась ему на выручку Жанна. — Теперь он на ребенка напал! Слова у него тут вот, — она ткнула себя пальцем в грудь, — одни слова, ничего больше.
Вадька поднял голову:
— Да ты уж слишком, старик, надо все-таки…
Сердце глухо колотилось, толчками подбрасывая ненависть к горлу. Игорь сделал полшага вперед, собираясь что-то сказать, но Люда опередила его.
— Ой, Игорь, сколько уже времени? — спросила она вдруг. — Я ж совсем забыла: в три мама должна звонить! Да что ж это я? Вы уж нас извините, Вадим Сергеевич.
Игорь как-то обмяк, подумав: «Ну, Людка, выручила».
— Да, — сказал, — как же это и я забыл?
Прощались несколько смущенно, но с видимым облегчением. Вадик проводил их до калитки. Пожимал руки, заглядывал в глаза.
— Приезжайте как-нибудь еще, а, ребята?
— Обязательно, Вадим Сергеевич, — говорила Люда. — Непременно.
Когда проходили по улице вблизи распахнутых окон веранды, их нагнал скрипучий, нарочито громкий голос:
— Это он на меня обиделся. Не вынесла душа поэта тьмы низких истин. Ах-ах! Вот что я в людях ненавижу, так это ханжество!
Игорь приостановился.
— Мамина карьера ей икается, — сказал, напрягая голос. — Спешит всю грязную работу сделать. Морально грязную, потому как нынче…
Люда свирепо дернула его за руку, потащила прочь.
6
Давно ли это было: конец июля, жара, духота, внезапные грозы?
А уже и ноябрь на излете. Елки, ограды, плечи и головы — все присыпано легким, бесшумно скользящим, удивительно белым снежком. Он нежен, доверчив. Ложится на мягкую, не прокаленную морозом землю, а мы бредем понурой толпой и сотнями ног мнем его, вдавливаем, превращаем в грязь.
Дико, нелепо, невозможно понять, и все-таки это так: мы хороним Вадьку Нечесова.
Впереди всех длинноволосый юнец с меланхолическим равнодушием несет на красной подушечке его единственный орден. Потом целая цепочка — венки с белыми и черными лентами, и, наконец, неровно, толчками, потому что несущие оскальзываются в грязи, плывет сам Вадька, смиренно скрестив руки.
Когда хоронили его отца, все было внушительней. Больше орденов, народу, военный оркестр и даже несколько солдат с автоматами для прощального салюта над гробом ветерана.
Да, у Сергея Давидовича всего было больше, даже жизни. На целых восемнадцать лет — и это несмотря на войну, голод, три ранения… Обидно, что Вадька — Вадька! — умер так рано, и еще обидней, что так обыденно, чуть ли не по-чиновничьи. Конечно, мы всегда знали, что умрем, но допускали это только в такой редакции: «…постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом…» Он же просто понервничал на каком-то там заседании и — инфаркт, а в больнице, недели через две, — второй. И все, и нет человека.
Читать дальше