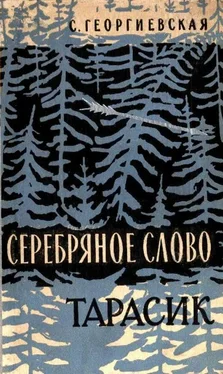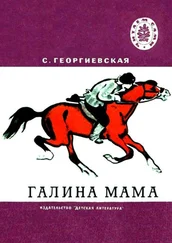На лавках у почты сидят люди — два геолога в соломенных шляпах, какой-то толстый дяденька, пожилая гражданка.
Тот человек, который только что вышел из столовой, проходит мимо в своем накинутом на плечи пиджаке и вдруг останавливается.
Вот, вот она перед Лерой — кызылская почта. И вот он остановился… В самом деле, ну что ему стоит остановиться?..
На кызылской почте много народу. Взяв через головы телеграфный бланк («Девушка, будьте ласковы, дайте листочек!»), он ленивой, чуть развалистой походкой отходит в угол и там, стоя, придерживая одной рукой сползающий пиджак, быстро, решительно и задумчиво заполняет бланк.
Так. Теперь ей нужно опять увидеть город, разглядеть его дома улицы, словно сквозь волшебное стекло.
…Кызыл. Вечер. Кажется, что переполненный пылью воздух навис над крышами тяжелой пеленой. И долго не темнеет по-настоящему в Кызыле небо. Людно на улицах. Среди прочих, оглядываясь, не свистя, но как будто насвистывая, придерживая руками сползающий пиджак, идет с почты домой тот самый — единственный, тот самый — главный для Леры человек.
А назавтра утром, стоя вот тут, у Клавиного окна, она, Лера, получает телеграмму. И ей хочется заплакать. Хочется обнять и расцеловать умытую, розовую, суровую Клаву.
Она получает телеграмму и, вобрав в себя воздух, чтобы не слишком громко дышать, бежит — нет, быстро, большими шагами идет по дороге — туда, где тайга и где кладбище.
И там, меж деревьев, она ложится ничком на теплую землю и прижимает пальцами веки. Что же это такое случилось с ней, какое же это свалилось на нее тяжелое, прижавшее ее к земле счастье?!
«Ой, ой, не могу. Не могу и не могу. Да что же это такое? Да что же это такое?.. Ой, не могу!..»
Не моги.
Телеграмм нет. Нет никаких причин целоваться с Клавой и лежать, закрыв глаза, меж деревьев у кладбища. Спускайся спокойно с крыльца и сейчас же ступай в райком. Дела не ждут.
Вокруг все то же. Узкий переулок, ведущий к реке, здание школы, подальше — клуб…
Все как вчера и позавчера… Тора-хем.
Торахемский райком — одноэтажное здание. Через распахнутое окошко Лере был ясно виден кабинет второго секретаря Силина.
Он сидел у стола, а рядом с ним — два приезжих инженера-железнодорожника.
Лера знала, что их экспедиция остановилась в колхозе «Седьмое ноября». Это знала вся Тоджа, весь Тора-хем. И каждому было ясно, что здесь задумали проложить железную дорогу.
Вот уже с месяц, как в небе стал появляться непривычной формы самолет. Вскидывая головы и заслоняя от солнца глаза, тоджинцы напряженно следили за колеблющейся в небе точкой, похожей на комарика.
Они говорили: «Заснимывают». Самолет летел за хребты гор, кружился над тайгой, жужжал все тоньше, уходил все дальше, пока вовсе не исчезал, чтобы скоро возвратиться с тем же пронзительным и отчего-то всегда неожиданным жужжанием.
Инженеры из экспедиции были пожилые, один из них одет в форму полковника железнодорожной службы.
Все трое — Силин и приезжие — сосредоточенно склонялись над картой, лежащей на письменном столе.
Через распахнутое окно слышался их ровный говорок. Слов нельзя было разобрать. Говорок то и дело прерывался.
В комнате царил тот знакомый Лере особенный дух мужской суховатой деловитости, когда всякому очевидно, что люди ничего вокруг не замечают, да и не хотят замечать.
У всех троих лица были озабоченные и вместе спокойные, потому что чего ж особенного: дело. Они знают, что значит настоящее дело, и знают, как взяться за него. Дело будет и завтра и послезавтра. Много дел. И все их надобно переделать. И они переделают их — добьются, где надо, транспорта, рабочей силы, помещения, и дело пойдет, а где не пойдет, там они нажмут и докажут.
Эти двое уверены в себе. И нужны Силину (потому что это важно и ясно каждому: железная дорога!).
Так думала Лера.
И вдруг Силин приподнял голову и заметил ее в окне.
Он сказал:
— Ты что там, мух, что ли, пришла ловить, товарищ Соколова? Давай заходи.
И крякнул.
Лера вошла.
Оба инженера сейчас же приветливо заулыбались и стали внимательно ее рассматривать.
Один из них — тот, что в железнодорожной форме, — был сед, белые волосы зачесаны на косой ряд, лицо буро-загорелое и глаза прикрыты стеклами, но не очков, а пенсне. У него были крупные мягкие, немного выдающиеся вперед губы человека, умеющего хорошо, со вкусом, поесть. Лере отчего-то подумалось, что в Москве, у себя дома, он совсем не такой, как в кабинете у Силина, — нет, там он, наверно, раздражительный, может быть даже сварливый…
Читать дальше