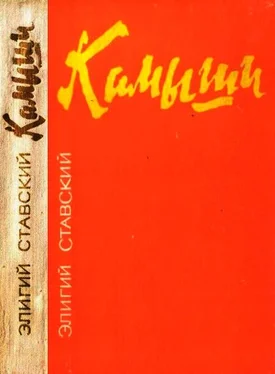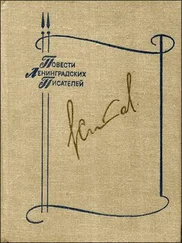— Ааа, — даже как будто простонал он. — Узнаю, узнаю… Ну, тогда я вам должен сказать спасибо, — объявил он, выкидывая руку. — Спасибо вам, Виктор Сергеевич, что вы сели со мной в самолет. Спасибо, что вы прилетели в Ростов. Спасибо, что вы болтались по Темрюку и ухаживали за чужими женами. Но если я вам дам ружье, а вы будете стрелять неизвестно куда, я за это не отвечаю. Вам это ясно?
— Глеб Дмитриевич, я слышу — гудит машина. Мне пора уезжать. Вам что-нибудь нужно от меня?
— Мне? От вас? — трагически воскликнул он и расхохотался. — Да господи, откуда берутся фанатики? Как откупиться от них в конце концов, чтобы людям жилось спокойно? Ну давайте, давайте, поливайте гнилое дерево. Давайте вместе с вашим Рагулиным, вашим Симохиным, со всей вашей дивизией. Пробуйте…
Он кричал еще что-то. Непонятно почему, в меня вдруг ворвалась злость. Я испытал желание вышвырнуть его отсюда.
— Глеб Дмитриевич, — встал я, пытаясь быть сдержанным. — Перестаньте брюзжать. Понимаете? Подмечать и брюзжать, и ничего больше. Я уже вам как-то давно сказал: сделайте шаг к делу.
— Ах вот что? — скривился он. — Так я могу. Я могу. Или, по-вашему, мне нужны побрякушки? Я могу. — И, размахнувшись, он запустил зажигалку в окно. — Вот так?.. А я любил своего отца. Вы это понимаете? Я любил его… А вы его даже в глаза не видели. Фронтовой друг!
— Глеб Дмитриевич, мне это надоело. Я ухожу, — сказал я и оставил его одного.
Он выскочил за мной следом и, цокая, шел по коридору, захлебываясь все на той же ноте.
— Ну, поживем — увидим. Поживем — увидим. Ну верьте, ну давайте, ну изымайте стиральные порошки, запретите заодно удобрения, ломайте автомобили… перевешайте всех химиков… на таблице Менделеева перевешайте их!.. Остановите! Все, все остановите! Попробуйте! Верьте! Нет, дудки вам, батенька! Дудки! Выпустили джина, а теперь будем сдавать бутылки. Есть у вас? Можно сдать. Сообразим? Сообразим, батенька?..
Или вы что… вы, может быть, из меня человека сделать пытаетесь? А я не хочу. Понимаете? Я не хочу. Это вредно…
Я уже не слышал его. Мне вдруг показалось странным, даже удивительным то, что и дед мой и отец всю жизнь занимались именно химией…
…Наверное, это было оттого, что полегла трава, а тростник начал желтеть, сник и уже чуть отступил от берега, дорога на Ордынку теперь стала словно просторнее. И лиман тоже притих, налившийся тяжестью и как будто пустой. Почти открытая серая гладь воды…
Мы ехали и молчали.
А ведь это же было совсем недавно, когда я плелся по этой дороге, перекладывая рюкзак с плеча на плечо, не соображая ни куда идти, ни куда ехать. И вот как быстро все переменилось. Что-то проникло в мою жизнь совсем новое, а что-то кончилось.
— А чуешь, казак, — повернулся ко мне секретарь райкома, — ведь не гадал и во сне такого не увидел бы, чтобы на Ордынке и вдруг… свадьба. Вот же она какая сила жизни. И чего-то вот сижу и про свою судьбу думаю… Ну, а как ты считаешь, будет у нас богатое море? Вернем море? Сохраним природу? Веришь?
— Верю. А как же еще? Конечно, верю, — ответил я.
— Да, — кивнул он. — Тут, как ни рассуждай, а должны, если хотим жить…
Была тишина, но и была какая-то грусть в этом робком и ласковом сиянии низкого уже солнца, в этом словно обесцвеченном, совершенно прозрачном воздухе, в этом готовом к долгому ожиданию покое. Было слышно, как похрустывал под шинами песок, ударял вдруг по днищу камень…
«Идите, идите сюда. Я не боюсь вас!» (нем.).