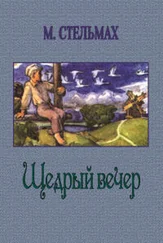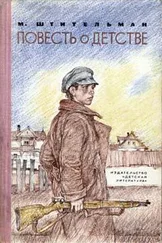— Правду… Ваш дядька тоже, как барсук, прятался в норах от революции.
— Он и теперь не очень любит днем выходить на люди. Вот если бы ты до позднего вечера остался здесь, мы бы увидели всех барсучат. Они такие смешные. Повылазят из норы и принюхиваются ко всему, даже к лунным пятнам, будто они пахнут.
На старой, обросшей скрипицей [29] Скрипица — условно-съедобный гриб рода Млечник; в простонародье он называется молочай, скрипун, скрипуха.
березе зацокала белка. Люба подняла голову вверх, разыскала интересного зверька, улыбнулась и сказала:
— Здравствуй, белочка.
Зверек шевельнул ушами и, глядя на нее, спустился ниже.
Но на полянке, качая на спине лодочки ушей, появился заяц-подросток. Белка молнией метнулась на другой дерево, а заяц торчком бросился в кусты.
— Свой своего испугался, — сильно улыбнулась девочка и уже сказала чьими-то словами: — Нет согласия ни между людьми, ни между звериной.
Потом мы побежали к той кислице, где и теперь глупенькая трясогузка снесла яйца. Она, как и в прошлом году, выстроила такое мелкое гнездышко, что должна была и днем и ночью держать хвост на воздухе. А может, ей так приятно охлаждаться? Пичужка увидела нас, вросла в гнездо, но не поднялась с него.
— Она меня узнала, — тихо сказала Люба, и мы попятились назад.
— А чего здесь, вокруг ствола, столько битого стекла лежит?
— Это я набросала, — с гордостью сказала девочка. — А перед ним еще и крапивы натрусила.
— Для чего?
— Будто не догадываешься?
— Нет.
— Ой, здесь такая печаль была: вражья гадина чуть не съела нашу трясогузку, уже к самому гнезду подбиралась. А бедная птичка сидит на яйцах и не убегает. Хорошо, что я случилась: ухватила палку — и по гадине, по гадине…
— Ты? — удивленно посмотрел на Любу, на ее и сейчас разгневанное от воспоминания лицо. — И не испугалась?
— Испугалась, но не очень: то была не гадюка, а уж. А гадюк и взрослые боятся. После этого и насыпала вот здесь стекла, потому что птицы должны жить.
— Вот молодец!
— А разве ты не так сделал бы? Хочешь, я сейчас наварю чумацкого кулеша?
— Это же какого — чумацкого?
— С рыбой и дымом, — засмеялась Люба. — Мой кулеш даже отец хвалит. Хочешь?
— Не хочу.
— А чем тебя угощать?
— Ничем.
— Ты чего-то, Михайлик, сегодня невеселый? Может, дома нелады или грызня?
— Есть чем сокрушаться человеку, — всплывало свое, и все погасло во мне, и даже пчелы грустнее запели над разнотравьем.
— Что же у тебя, Михайлик? — сразу стало сочувствующим Любино смуглое лицо, наполнился сожалением узелок губ, а ямка под ним зашевелилась.
— Эт, и говорить не хочется.
— А ты скажи, — может, станет легче.
— Имею, девушка, три кручины, как тот соловей, который свил гнездо низенько, — повторяю мамины слова. — Первая кручина — нет человеческого жилья, вторая — стоит наша земелька перед торгом, а третья — лежит неизведанная дорога, как горе.
— Неизведанная дорога? — загрустила Люба, загрустили ее тенистые ресницы и потемнели глаза. — Куда же она лежит, Михайлик?
— Далеко-далеко.
— Дальше Винницы?
— Что там Винница! Аж в степи, считай, к самому морю, где совсем нет ни деревьев, ни лесов.
— Ой, горюшко! — аж вскрикнула девушка. — Как же там люди без лесов живут?
— Живут, привыкли.
— А чем они топят?
— Сухой травой, соломой.
— И как они терпят такой недостаток? Не езжай, Михайлик, туда.
— Разве же я хочу? Это все отец надумал.
— Попроси хорошенько его.
— Мама уже и слезами просила.
— А отец что?
— Сердится.
— Все они, мужчины, одинаковы. И наш сердится на маму чаще, чем надо. А моя мама такая, что грех даже коситься на нее. Может, пойдем в шалаш?
— Зачем?
— Сядем погрустим. Сокрушаться лучше, когда никто не видит, — опечаленно посмотрела на дорогу, что шла и шла себе в зеленую тишину, а идя, играла и играла белыми облаками и синими прорубями неба.
Возле шалаша сушился сак, он пах травой и рыбой, а в шалаше кто-то ворошил кусочки солнца. И здесь нам стало совсем печально.
— Михайлик, а в степях и земляники не будет? — обхватив руками колени, спросила Люба.
— Нет.
— А что же там будет?
— Абрикосы и арбузы. Там арбузы большущие, большие чем ты растут.
— Это уже басня.
— Сам отец говорил.
Люба недоверчиво посмотрела на меня, протянула кувшин с земляникой.
— Поешь, Михайлик.
— Не хочу.
— Недаром говорится: когда кручина ест человека, то ему не до пищи, — положила руку на кусочек солнца.
Читать дальше