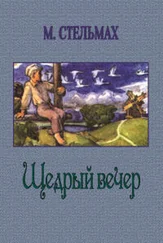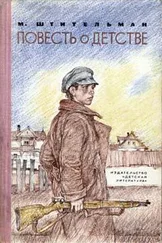Дядя Себастьян подошел к нему ближе, отвел руку и двинул Порфирия кулаком в грудь. Тот крутнулся и сразу же очутился возле окон, вытирая спиной стену.
— Ну, как, немного легче? — насмешливо спросил дядя Себастьян.
— Ой, легче, как гора с плеч свалилась! — хохоча, выпрямляется и поднимает вверх ковшистые руки Порфирий. — А теперь я поворачиваюсь, переступаю порог и иду, а потом бегу домой.
Просветленный, он выходит из комбеда, и сквозь незакрытые двери мы некоторое время слышим ошметки не то всхлипывания, не то хохота…
На этом и закончилось бы дело Порфирия, если бы за него с другого конца не ухватился бдительный Юхрим Бабенко. На следующий день, облачившись в праздничное, он отправился на хуторок к Порфирию, расцеловался с ним, с его женой, ел пил за их столом и падал со смеху, когда хозяин рассказывал, какую имел исповедь у председателя комбеда.
Это было днем, а вечером Юхрим, уже в повседневной одежде, горбился перед черной чернильницей и строчил материалы: сообщение в газету, а заявления — в уезд, губернию и столицу. Писал не потому, что у него прорезался зуб на Порфирия или хотел занять должность председателя комбеда — зачем ему эта неприятность, когда за нее не платят денег? Юхриму Бабенко нужна была бдительность и неусыпность обличителя, чтобы на этих лошадях попасть на службу пока что хотя бы в уезд. Зачем ему такую голову и почерк губить в селе? И еще хотелось Юхриму прослыть корреспондентом — и от мужиков почет, и от женщин уважение. К счастью, случилось и подходящую дело. Революция в опасности, ее спасает Юхрим! И он пишет и радуется написанному.
В заметке и в заявлениях он обвинял дядю Себастьяна в тяжелых грехах против революции: в потере классовой бдительности, в подозрительных связях с классовыми недобитками, в самостоятельности ума и соображения и в рукоприкладстве. Более пристально селькор напирал на то, как это можно было отпустить бандита домой без согласования, разрешения и документации вышестоящих органов.
В село на бричке приехала первая комиссия. Председатель комиссии, видно, был больным человеком. Ему все не хватало воздуха, задыхаясь, он синел и становился очень сердитым.
— Этот не помилует Себастьяна, — с сожалением заговорили в населенном пункте.
— Не поиграет ли он теперь на пианино в тюряге? — обрадовались богатеи.
От этих слухов и шепотков у меня горько и тревожно стало на душе. Комиссия за закрытыми дверями начала отдельно допрашивать Порфирия, дядю Себастьяна и в конце Юхрима. А перед закрытыми дверями убивалась от горя и слез жена Порфирия. Больше говорил Юхрим, его красноречие помощника писаря, как на волнах, шло на самом святом: революции, революционной бдительности и классовой непримиримости. Юхрима никто не перебивал, а когда он замолчал, председатель, задыхаясь и синея, поморщился:
— Все?
— Пока все. Но если надо для протокола и действия, еще могу, — пообещал Юхрим, вытирая пот с лица.
Тогда председатель комиссии обратился к Бабенко:
— Вы не сможете ответить на два вопроса: первое, кто вас научил бросать тень на святое слово — революция? Второе, кто ободрал, ощипал, как курицу, вашу совесть?
— Я жаловаться по всем пунктах и инстанциям буду за оскорбление индивидуума, — закричал Юхрим.
— Это вы сумеете. Как я полагаю, вы всю жизнь будете на кого-то жаловаться и до тех пор топить людей, пока с вас не снимут штаны и не всыплют по всем пунктам. Только это может помочь вам.
Юхрим, как побитый пес, выскочил из комбеда, а на его место, шатаясь, вошла жена Порфирия. Комиссия долго не могла ей объяснить, что никто никуда не будет забирать ее мужа — пусть только честно он живет. Для этого и амнистия дана властью.
— Ой, спасибо вам, люди добрые, — наконец ожила женщина. — Так прошу, не побрезгуйте, заезжайте к нам, дома еще самогон остался. Тот черт не дал людям допить.
— Крепкий? — задыхаясь, поинтересовался председатель комиссии.
— Горит синим цветом.
— Тогда мы его заберем в больницу. Не пожалеете?
— Что вы, господь с вами! Если надо, еще выгоним — это уже для вас.
Комиссия забрала самогон. Юхрим пронюхал и об этом, обрадовался и, предвкушая, как он подсунет тележку председателю комиссии, двинул в больницу. Но новый материал не выгорел: самогон как медикамент был сдан главному врачу, потому что в те годы с лекарствами было очень трудно.
И лечили тогда в селах не так врачи, как знахари, костоправы и шептухи, орудуя заклинаниями, заговорами, тьфу-тьфуканьем, непочатой водой и землей, ее чаще всего прикладывали к сердцу и ранам. Когда же кто-то умирал, на это смотрели по-философски: бог дал, бог и взял. Однако теперь не так забирал бог, как тифозная вошь, она была самым верным помощником костистой. Поэтому неудивительно, что жена Порфирия, в большой ненависти к Бабенко, прозвала его тифозной вошью.
Читать дальше