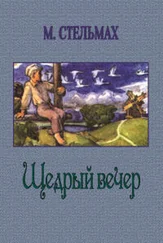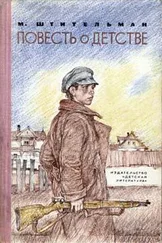А лед сегодня аж выигрывает на скрипке, и такой он после большой оттепели чистый, что под ним виднеется печаль затопленных ивняков и травы. А разве это не радость — вытягивать из него посвист и слышать в своих ногах ветер?!
— Михайлик, Михайлик, аго-ов! — напевно отозвался возле верб Любин голос.
Ой, какая она хорошая сегодня в новенькой юбочке, сачке [50] Сак — женское полупальто свободного кроя.
и большом терновом платке! Я поворачиваю к тем вербам, которым года высаживают середину, а Люба спешит мне навстречу.
— Ишь, какая ты сегодня!
— Какая? — радуется, играет глазами и стесняется девочка.
— Праздничная.
— Потому что сегодня свят-вечер заходит. Мама даже дала мне свой платок. Видишь, какие на нем цветы? — И хвалится, и стесняется хвальбы, чтобы я часом не подсек ее насмешкой.
Платок на самом деле хорош: на черном поле, как на куске крестьянской судьбы, так зацвели красные цветы, что за ними и не видно темной печали.
— Тетка Василина тоже накрывалась им, когда ездила петь в театр. Ой, ей так хлопали в ладони, так хлопали, даже в газете в этом платке напечатали.
— В этом? — сразу более дорогим и волшебным становится для меня этот платок, столько впитавший в себя огней и глаз.
— В этом самом. Невидаль, а не платок.
— А как теперь тёткин дядька?
— Сначала тайно убивался, а теперь тайно гордится и такую любовь показывает, какой даже при ухаживании не было. А кое-кто подзуживает его. Я немного покатаюсь на твоих. Можно?
— Только не упади.
На это Люба махнула рукой и рассудительно сказала:
— Разве обойдешься без этого?
Она неуверенно встала на коньки, ударила шпинем в лед, а ноги ее сразу пошли в разные стороны.
— Ты бы их веревочкой спутала, — укусил я, а Люба, вместо ответа, показала кончик языка. Увидев его, я засмеялся.
— Ты чего? — удивилась девочка.
— У тебя и язык темный, как лицо, а я и не замечал этого.
— Хи-хи-хи, — слетела с коньков Люба и ухватилась обеими руками за живот. — Утешился, пустомеля!
— Чего это я пустомеля?
— А чего выдумал такое?
— Разве я виноват, что у тебя язык черный?
— Это мы сегодня ели пареную чернику — и во всех, даже у отца, почернели языки, как у трубочистов. Научишь меня немного ездить?
— Поедем дальше, — с опаской взглянул на то место, где куролесила детвора: — не очень хотелось, чтобы тебя подняли на смех.
— Можно и дальше.
Между вербами и ивняками я на коньках помчал к той Медвежьей долине, где возле мостика стоит одиноко хуторок-однохатка и где мы когда-то с дедом находили места вьюнов и карасей… Эх, деда, деда, кто мне теперь выстроит ветряк, кто посадит возле его крыльев молодого лебеденка?
Я остановился на пятачке того плеса, где мы с дедом поймали самого большого щупака. Здесь лед был такой тоненький, что слышалось, как под ним потихоньку шептала и пререкалась с берегом вода. А на берегу, как седые деды, стояли заснеженные стожки; перехватывая солнце и ветер, они тихо-тихо звенели и отряхивали слезы на снег.
— Михайлик, а здесь не страшно? — подбежала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Люба.
— Чего тебе страшно?
— Здесь вода совсем живая. Вот видишь, как она дышит? Пошли отсюда.
— Ничего, такой вес, как твой, выдержит. Вот становись на коньки.
— Я немного дальше!
— Дрожь одалживаешь?
— Что ни говори, а страшновато!
Люба встала на коньки подальше от течения, я взял ее за руки и, пятясь, потянул за собой. Если же ее ноги разъезжались, то останавливался и учил, как надо держаться, а дальше снова тянул за руки. А когда эта учеба надоела, забрал у нее коньки, присвистнул и, щеголяя, помчал, как хотелось мне: с такими вывертами и поворотами, что аж вокруг затанцевали ивняки и вербы. Ветер ловил меня, а я его, и хотя на глаза набегали слезы, — в глазах было полно упорства.
— Ты прямо, как метелица, кружишь! — восторженно сказала Люба и аж затанцевала на льду, и затанцевали ее красные цветы.
А я после ее слов, как бес, вывертел круг, выбросился на ясенец, а оттуда снова помчал к седоголовым стожкам.
И вдруг подо мной зашипел, вогнулся и треснул лед, по нему поползла ослепительная паутина трещин, сразу подпрыгнул вверх берег, а из глаз начали выпадать солнце, стожки и вербы. Вода обожгла меня, как огонь. К счастью, руки мои, выпустив шпинь, повисли на льду, я в один миг вылетел из реки и, сам не знаю как, оказался на берегу возле вербы.
С моей верхней одежды и, главное, с галифе зажурчали ручьи, а в сапогах зачавкала вода. Затуманенными глазами увидел прорубь, паутину трещин вокруг нее, что играли солнцем, и мой одинокий, прибитый к берегу конек.
Читать дальше