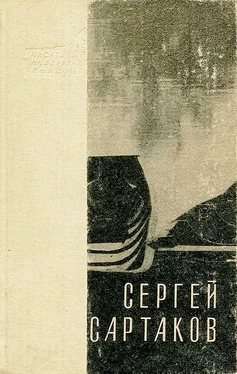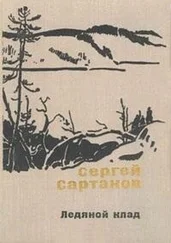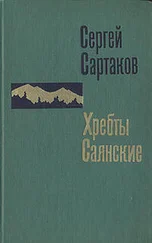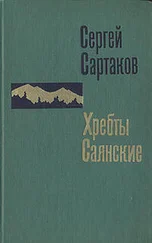— Как мы все-таки недоглядели этого человека. Костя, в этом ты больше других виноват. Столько лет ты и живешь с ним рядом и работаешь вместе!
И я согласился, что, конечно, я больше всех виноват.
Маша засмеялась:
— Ладно, Костя, не будем ссориться. А вот выйдет Шахворостов на свободу, ты им займись поплотнее.
И я сказал:
— Займусь. — Но при этом у меня сильно зачесались ладони.
Да. И вот теперь этот самый Илья не кому-нибудь, а именно мне, и притом почему-то еще через Шуру, шлет свой привет!
Бывает, щелкаешь кедровые орехи, идут все сладкие, сладкие, и вдруг жгучей горечью опалит тебе рот: попался гнилой. И долго потом не можешь ничем заесть этот противный вкус, хотя и попалось на зуб всего-навсего одно порченое ядрышко.
Так вот и с приветом от Шахворостова. Казалось бы, сущий пустяк, а настроение мне он на несколько дней испортил.
Решил я Маше послать письмо. Не специально по поводу привета Ильи, но все же упомянуть и о нем. Интересно, как отзовется Маша? Но вообще я скажу, писать письма — для меня все равно что усы себе по волоску выщипывать: дернешь и остановишься — три-четыре слова напишешь и думаешь: «О чем бы еще?» Больше как на десять строчек мне мыслей для письма никак не найти. А Маша находит. Она может, как Фридрих Энгельс, письмо на сорока страницах написать. И будет интересно.
Сел я за стол, положил перед собой лист бумаги, начал легко:
«Красноярск. 26 мая 1956 года.
Здравствуй, Маша! Как твои дела? У нас, в общем, все как было. Живем хорошо…»
А дальше — пусто в голове. Новостей никаких не припомню. Не начинать же сразу с Шахворостова! И потянуло у меня глаза от листа бумаги куда-то вбок, потом к потолку, потом я вспомнил, что надо бы подтянуть гирьку у часов-ходиков, потом проверил, крепко ли спит Алешка, потом вдернул себе в ботинки новые шнурки, потом…
Словом, когда я снова вернулся к столу, чтобы закончить письмо, мысли кое-какие у меня шевелились, но мне захотелось сперва посмотреть на Машу. Я снял со стены и вытащил из рамки фотокарточку, на которой мы оба изображены были рядом, оба удивительно красивые, и стал вглядываться в черты Машиного лица. Глядел до тех пор, пока оно не стало совершенно живым. Ласково моргнули ресницы, левая бровь улыбчиво поползла вверх, и от этого сразу теплые лучики согрели ей глаза, а губы шевельнулись так, будто она зубами старалась поймать скользкое зернышко. Фотография была обыкновенная, серая, но я хорошо видел на ней цвет Машиных глаз — синих, пожалуй, даже чуточку сзелена, как вода в осенней Ангаре, когда ее просвечивает до дна прямое, горячее солнце. И вместо того чтобы писать, я с Машей стал разговаривать. Конечно, не вслух, и даже не шепотом, и даже без слов, но мы полностью понимали друг друга.
Внизу на карточке была сделана надпись: «После нашего ледохода». В этот день мы с Машей расписывались в загсе. Выйдя оттуда, снялись. И в этот же день, между прочим, Илья Шахворостов как раз и предлагал мне испоганить кожу татуировкой, будто какая-нибудь там голубая змея или пронзенное кинжалом сердце помогли бы мне закрепить память о нашем счастливом дне лучше, чем эта вот карточка, глядя на которую можно и разговаривать с Машей и вместе с ней можно снова пойти на «наш ледоход».
Почему он «наш»?
Вот почему.
Не знаю, очень ли сильно природу любите вы. И если любите, то что в ней для вас самое дорогое? Какие события в ней больше всего берут вас за сердце? Мне, например, в природе нравятся любые явления, даже пыль и грязь. Короче говоря, нет ничего такого, что заставляло бы кривить губы. Но что больше всего мне дорого — это восход солнца на Столбах и ледоход на Енисее.
У Енисея есть своя особенность — он взламывается чаще всего только ночью. Во всяком случае, я не помню, чтобы Енисей тронулся среди белого дня.
Смотреть на ледоход очень интересно. Когда Енисей пойдет полным ходом, вся набережная в Красноярске усеяна людьми, и многие, чтобы поглядеть на такое красивое зрелище, под разными предлогами удирают с работы, тем более что одно время о первой подвижке льда город оповещался гудками электростанции и железнодорожных мастерских. Теперь этого не делают, но люди все равно каким-то образом узнают о начале ледохода и прибегают к реке даже с самых дальних концов города.
Я сказал: «Смотреть на ледоход интересно». Даже с набережной. Правильно. Спору нет. Но если разобраться поглубже, это все равно, что в светлый майский день любоваться золотым солнышком, когда оно стоит уже высоко над крышами домов. Главное в красоте солнца — это его восход. Заметить самую тонкую белую полоску рассвета, проследить, как она нальется розовой, а потом багрово-красной силой, как разбежится чуть не во все небо, охватив его сочным, словно бы льющимся заревом, и, наконец, над горой обозначится маленький светлый глазок, который смотрит пока еще не на тебя, а куда-то выше, на бело-розовое облако: смотрит, смотрит туда и вдруг мигнет и тебе, и тогда сразу из-за горы низко протянется тонкий и длинный золотой луч, который — верите? — можно успеть схватить рукой, прежде чем он пролетит мимо.
Читать дальше