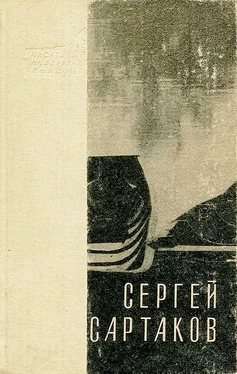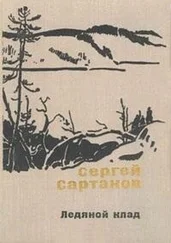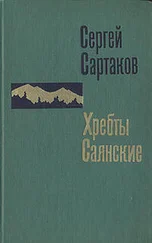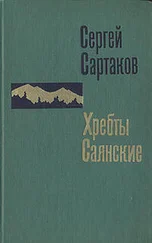Она подала мне принесенную ею бумагу. На одном листе был нарисован мой портрет, на другом — Машин. По-честному говоря, нарисованы не очень-то хорошо: мало похожими и без живинки. Совсем не то, что Алешка, который почетно висел у нас на стене и так и лез с листа бумаги. Но все же спроси любого из наших знакомых: «Кто?» — сразу ответят: «Как кто? Барбины!» В уголках портретов были сделаны пометки. На Машином — «Ш. К», а на моем «А. Королева».
— Конечно, плохо, Костенька, я сама знаю, плохо. Тем более для подарка. Но я ведь по памяти, да и руки еще очень дрожали. Я у художника этого весь запас бумаги извела.
И длинно стала рассказывать, как она рисовала. А я чувствовал: ей хочется говорить о чем угодно, только бы говорить, она боится, что говорить начну я. Мне же как раз хотелось молчать, и я боялся, что Шура замолчит и тогда говорить придется мне. Получалось как-то так, будто Шура уже все знает.
Пока она говорила, я разглядывал портреты. Теперь они мне казались лучше, живее. Притягивали внимание подписи: почему Шура подписалась не одинаково?
А Шура все говорила. Уже другое:
— …После этого я еще много думала. Все твои слова вспоминались: «Лучше журавль в руках, чем в небе». Синицу и ту я не удержала. Где же мне тогда схватить журавля? И вдруг даже самой стало смешно. Может, потому синичку-то я и не удержала, что очень уж маленькая она, обманула меня, проскочила между пальцев. А журавль большой. Не проскочит, не схитрит. Силы у меня хватит. Удержу. Пойду за журавлем. Словом, возьму, Костенька, малярную кисть и пойду. Либо я его поймаю, либо… я поймаю его! — Она засмеялась. — А ведь чуть-чуть не сказала: «…либо — и синица будет тогда не нужна». Понимаешь, Костенька, я попробовала по-твоему. Сказала себе: «Сегодня понедельник. Что ты, Королева, сделаешь за шесть дней?» И я представила себе, как в понедельник я загрунтую стены, как во вторник наложу фон, как в среду… Словом, Костенька, я увидела красивую комнату, такую, какой у меня еще никогда не было. И я представила себе еще другой понедельник. Загрунтовано полотно. Вторник. Сделаны карандашные кроки. Среда… Не знаю, пятая или сотая среда, но с полотна на меня глядит что-то живое. Журавль этот самый, может быть! Костенька, что же ты молчишь? Я опять все неправильно говорю?
И лицо у Шуры немного испуганное.
Я сказал, что в общем мне нравится, как она говорит. Только твердо ли обещана ей работа в художественной мастерской? Может быть, сначала все же поработать чертежницей? Там ждут…
Шура ладонью потерла лоб.
— А-а… — сказала она каким-то гаснущим голосом. — Нет, Костенька, туда я не пойду. Туда — нет… — Набрала воздуху, шумно выдохнула. — Все болтаю, болтаю… Тебе пора уходить, а я не могу добраться до своего второго решения. Хотя оно уже совершенный пустяк… Дай мне тридцать пять копеек. На счастье.
Я пошарил в кармане, там было много мелочи и вынул два двугривенных. Подал Шуре. Она посмотрела на них прямо-таки со страхом и сказала:
— Костенька, я просила тридцать пять. Неужели у тебя нет?
— Пожалуйста, — сказал я, — каких угодно.
Вытащил целую горсть и в пару к двугривенному дал ей пятнадцатикопеечную монету. Она бережно засунула их за обшлаг халата.
— Спасибо.
И затихла, как-то все уже становясь в плечах. Я тоже молчал.
— Костенька, что ты все смотришь на эти подписи?
— Почему? — сказал я. Хотя смотрел действительно на подписи. — Я все смотрю на портреты. Вообще-то здорово ты умеешь рисовать…
— А мне показалось… Костенька, к тебе еще просьба: на Алешенькином портрете зачеркни, замажь нагусто мягким карандашом последнюю букву подписи.
— Это почему? — спросил я.
— А ты помнишь ее? Какая там буква? В скобках…
— Я не только буквы помню, я все слово помню. Мне Маша его прочитала.
— А-а! Ну вот и затри ее, эту букву, наглухо, начерно.
Она то улыбалась одними губами, то становилась совершенно холодной и строгой, как раз такая, когда я ее на «Родине» в первый раз увидел: все время меняющаяся, двойная, и не знаешь, где она сама, настоящая, и где чужая, сделанная.
— Почему?
Не знаю, для чего повторил я это. Получалось, что Шура вела именно тот разговор, какой должен был вести я, а я, наоборот, мешал ей. Но мне просто жаль было Шуру.
— Костенька, ты не помнишь, какой это генерал, когда нельзя было отступать, сказал своим солдатам: «Если я дам приказ об отступлении, застрелите меня»?
— Нет, не помню. А что? Читал вообще-то. По-моему, так многие генералы говорили.
Читать дальше