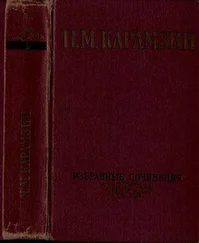Сели.
Номер гостиницы был обставлен с осанистой старинной роскошью. Тяжелые портьеры на окнах. Ковер с бахромой. Грузный шкаф. Трюмо в полстены. Величавая кровать… Однако вся эта роскошь была довоенная, а может быть, еще и до той войны: ковер протерт до дыр, портьеры облезли, зеркало — осповатое, в щербинах. Не оттого ли, когда я вошел в этот номер, на меня повеяло теплой стародавней домовитостью? А я уж от этого отвык. Что я видел в последние годы? Безуютные пристанища эвакуации. Казарму.
— Ну, как ты… живешь? — спросила Ма, присаживаясь рядом и не сводя с меня глаз.
(«Как же ты живешь без меня?» — договорили глаза).
— Хорошо, — улыбнулся я в ответ. («Уж конечно лучше, чем дома», — беспечно и жестоко договорила моя улыбка).
— Летаешь? — поинтересовался Ганс.
— Летаю. С инструктором, — сказал я. И, помявшись, признался: — За пассажира…
— Ничего. Все начинают с этого, — кивнул ободряюще Ганс.
Ма облегченно вздохнула.
— А вы надолго? — спросил я.
Мне не терпелось узнать, какими судьбами занесло их в Москву из далекой Сибири. Не меня же проведать приехали? Не то время — разъезжать да проведывать. Война.
Но вместо ответа на мой вопрос мама и Ганс лишь переглянулись мельком. И эта краткая перекличка взглядов показалась мне довольно странной. Будто они и сами не знали, что ответить. Будто бы они и самим себе еще не ответили на этот вопрос.
Ганс подошел к телефону, снял трубку.
— Один-четырнадцать, — сказал он телефонистке коммутатора.
А потом, когда его соединили, продолжил по-немецки: — Геноссе Хельмих? Эс шприхт Мюллер. Вир зинд алле байзаммен. Зи волльтен херкоммен… Биттшён.
(«Товарищ Хельмих? Говорит Мюллер. Мы в сборе. Вы хотели зайти… Пожалуйста».)
Теперь, после состоявшегося разговора, почему-то мы все трое замолкли и сидели каждый на своем месте, чутко прислушиваясь к коридорной тишине там, за дверью.
Мягкие шаги по ковровой дорожке. Четкий стук.
— Херайн!
В комнату вошел очень высокий человек с гривой седых волос, зачесанных гладко к затылку, с резко очерченным подбородком и младенчески-голубыми глазами. Он был похож на музыканта. Представительный такой, в черном костюме. И эта артистическая грива. И этот подбородок, который, поди, приходится так долго устраивать на скрипичной деке, прежде чем взмахнуть смычком…
— Познакомьтесь, пожалуйста, моя семья, — сказал Ганс. А потом представил гостя: — Товарищ Хельмих.
Хельмих протянул руку маме Гале. Потом пожал руку мне. Рука у него, однако, была широкая и грубая, как лопата. Вовсе не музыкантская рука.
И этой же широкой, как лопата, рукой он сделал хозяйский жест, приглашая всех сесть к столу. Будто не он был гостем у нас, а мы были его гостями.
Пришлось садиться.
— Вот какой дела, товаришши… — начал Хельмих. По-русски он говорил уверенно и внятно. Но куда хуже, чем наш Ганс.
— Вот какой дела… Центральны Комитет Австрийски компартия считает необходим, чтобы товаришш Мюллер поступаль распоряжение партии… Да… Значительны территория наша страна уже освобожден Советской Армией. Там сейчас происходит спло-че-ние всех демократических сил… Наша партия понес тяжелы потери в борьбе с гитлеризмом…
На секунду голова его резко наклонилась — длинные седые пряди упали на лоб.
Одну-единственную секунду он просидел так, окаменев, склонив голову. И, выпрямившись, закончил:
— Ганс Мюллер должен ехать на родина.
За окном густела вечерняя мгла. И хотя затемнение в Москве недавно отменили, ее улицы — даже главная улица, даже улица Горького, которая сейчас гомонила под окном, — освещены были скудно, еле-еле, без всякого досужего сверкания.
— Надолго? — тихо спросила Ма.
Спросила и очень смутилась, как будто ей самой этот вопрос показался нелепым. Как будто ей вдруг стало стыдно, что она задает такой вопрос. Но она не покраснела от стыда, от смущения, — наоборот, лицо ее стало бледным как мел.
— Ауф иммер… Навсегда.
Широкая, как лопата, ладонь припечатала край стола.
И тотчас на потолке, комнаты вспыхнули зоревые отсветы. Ухнуло неподалеку. Дрогнули стены.
Мама Галя оглянулась испуганно, встрепенулась по-птичьи, сжалась вся в комок.
Я притянул ее к себе, успокоил:
— Это салют… Теперь каждый день салюты.
Она ведь еще не видела московских салютов. Хотя, конечно, и знала, что теперь в Москве что ни вечер громыхают салюты — по два, по три, а то и по пять салютов. Из двухсот двадцати четырех орудий. Из трехсот двадцати четырех орудий. Двенадцать артиллерийских залпов. Двадцать артиллерийских залпов. Фейерверк во все небо.
Читать дальше
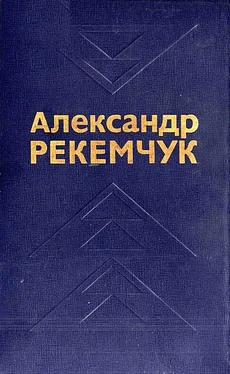

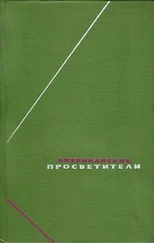

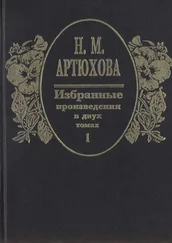

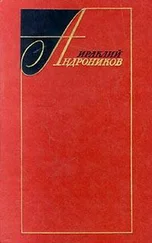
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)