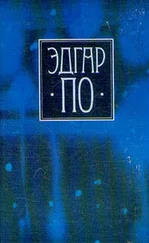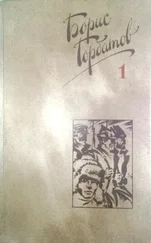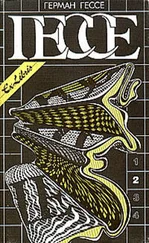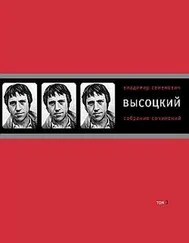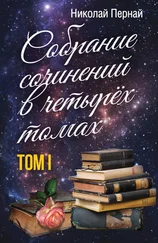Мария Ивановна плакала… Теперь не помню, сама ли она захотела играть роль Анки или ее убедил Попов, но она от растерянности плакала навзрыд, когда я начал расхваливать ей великие достоинства этого образа. Дмитрий Орлов, актер комического дарования, который и в жизни оставался комиком, ходил смущенный и растерянный. Ему казалось, будто кто–то со зла «подсудобил» ему роль Степашки. И никто в театре всерьез не мог представить себе, как Бабанова и Орлов сыграют эти роли.
А Попов представлял… Он обладал особым режиссерским видением на актеров. И хотел доказать, что новый, современный советский репертуар будет неминуемо ломать старые амплуа. Так это случилось потом и с Михаилом Астанговым, сыгравшим роль Гая в пьесе «Мой друг».
И Бабановой и Орлову роли нравились. Пьеса была принята труппой на редкость радушно. Но ни Бабанова, ни Орлов в этих ролях не видели себя. И, как это часто бывает у актеров, решительно от ролей не отказывались. И, как это еще чаще бывает, больше прислушивались к друзьям, чем к постановщику. Попову приходилось проявлять каменное терпение с главными исполнителями.
Но актер долго сомневаться не может. Лучший врач его мнительности — время, которое гонит к нему день премьеры. А Попов принадлежал к тем высоким профессионалам, которые настойчиво и ощутимо ведут репетиции к премьере. Правда, тут у него было свое больное место: слишком уж конкретно он видел спектакль у себя за столом. Попов реально видел свой спектакль как по линии внутреннего содержания, так и внешне, на глаз. Часто я ничего не понимал в том, что он делает, хотя у меня уже был кое–какой опыт репетиций у вахтанговцев. Чего он хочет, куда нацелился? Из всех возможных решений сцены он выбирал труднейшее и мучил исполнителей. В особенности Бабанову и Орлова. И они мучили его. Иногда было просто тяжело сидеть на репетиции.
Вот пример. Сцена, когда сталевар Степан, сделавший наконец удачную плавку, засыпает на заводе и к нему прибегает Анка.
— На руках унесу… на синюю сопку… на руках унесу… на самую высокую сопку…
Если эта удивительная Бабанова вообще никогда не верила себе и подстерегала самое себя насмешливым глазом, то в такой сцене она теряла всякую веру в свои возможности.
— Кого унесу?.. Я?.. Это смешно.
И хотела свести всю радость, весь порыв, восторг к тихой лирике. Попов не спорил. Да… Бабанова в роли Анки никого не унесет. Она щупленькая, и голос не тот. И он терпеливо и настойчиво вел исполнительницу к тому внутреннему состоянию, когда человек загорается, как звезда. Он видел Анку взметнувшейся, взлетающей в том романтическом восторге, когда зрителю уже не так важно, что говорит исполнитель, но становится необыкновенно дорого, как он говорит. И Мария Ивановна, умевшая поразительно лепетать на сцене, плетя тончайшие кружева из фраз, с их психологическими переливами, вдруг вырвалась в новый для нее героический мир и ошеломила театральную Москву… Но это «вдруг» было для непосвященных. В театре знали, сколько слез, усилий, труда стоил этот прорыв.
Милый, как дитя, впрочем, дитя, не лишенное хитрости, Дмитрий Орлов хотел непременно рассмешить в этой сцене зрительный зал.
— Простите, но меня же знают как актера комического!
С ним Попов обращался проще и решительнее. Он вообще запретил Орлову пользоваться какими–нибудь приемами своего амплуа. Но заставить его забыть, что он — знаменитый, любимый зрителем комик, не мог. Орлов скучал, томился… И оттого, думаю, что он томился и скучал, у него получился удивительный образ недоумевающего героя, точно сам Дмитрий Орлов с наивным испугом говорил зрителю:
— Вы понимаете, что я делаю? Я не понимаю.
Я не ценю пьесу «Поэму о топоре», да и ценить там нечего, кроме образа Степана, отчасти — Анки… Но в Театре Революции, в постановке Алексея Попова ее литературный материал приобрел огромное значение в повороте нашего театра к новому.
И до «Поэмы о топоре» ставились спектакли этого направления, например «Рельсы гудят» Владимира Киршона. Почему же только «Поэме о топоре» было суждено сыграть поворотную, решающую роль?
Успех несомненный, ошеломляющий, решительный показал деятелям театра, что пьесы такого рода не есть дань времени, что их можно и нужно играть серьезно, ставить творчески и, главное, ставить созвучно нарождавшейся эпохе. Успех этот зависел от всего ансамбля спектакля — прекрасно играли Милляр, Щагин, Зубов, — но главными были, конечно, Бабанова и Орлов, потому что они своим невиданным исполнением давали перспективу массе наших актеров в новом репертуаре. Не будь этого спектакля, точнее, не будь его в постановке Алексея Попова, пьеса не осталась бы в истории нашей драматической литературы, как вещь этапная. Спектакль не только возвысил ее литературный материал, но открыл принципиальные особенности его, важные для развития драмы нашего времени.
Читать дальше