Актриса исполнила «Синий платочек»; потом, называя имена других героев, спрашивала, какие песни они любят, и пела их, обращаясь только к ним.
И так хорошо она пела, просто и задушевно, что невольно каждому думалось о своей любимой, и она казалась такой же красивой и хорошей, как эта поющая женщина.
И вдруг на опушке леса, взметая черную землю, стукнул немецкий снаряд, немного спустя другой. Лицо у артистки стало белым, словно она сильно напудрилась, но петь она продолжала. А конферансье, стоявший у кабины шофера, завертел головой так, точно за воротник ему попал муравей. Командир подозвал к себе артиллерийского начальника, пошептался с ним, потом встал и сказал, что объявляется антракт на пятнадцать минут.
Бойцы остались на своих местах, а командир пошел к артистам за ширму. Прошло минут десять. Затем раздался такой орудийный залп, что вершины деревьев покачнулись. За ним другой, третий… Командир спокойно стоял за ширмой и разговаривал с артистами об искусстве. Но те его плохо понимали и только послушно соглашались со всем, что им говорил командир. Потом командир вынул часы, посмотрел и сказал, что антракт кончился, концерт может продолжаться.
Конферансье, который по–прежнему вертел шеей, дребезжащим голосом спросил:
— А скажите, пожалуйста, больше этих самых, посторонних шумов не будет?
Командир усмехнулся:
— У меня есть такие артисты, такие знаменитости, что они больше не позволят фашистам срывать концерт. Возьмите хотя бы наводчика Горбушина…
Тогда конферансье закивал головой и, не слушая дальше, бодро взобрался по лесенке на эстраду; развернув листок, он уже открыл рот, чтобы объявить следующий номер. Но к нему подошла красивая актриса и что–то сказала на ухо. Конферансье кивнул головой и стал ждать. Все актеры поднялись на эстраду и выстроились там. Бойцы думали, что они начнут петь хором. Но конферансье шагнул вперед и сказал серьезно и взволнованно:
— Товарищи, от имени всего нашего коллектива мы хотим поблагодарить наводчика товарища Горбушина, продемонстрировавшего сейчас всем нам свое искусство и вставившего в нашу программу подлинно артистический номер.
И артисты начали аплодировать.
1942
Пустое небо жгло стужей.
Снег был сухой, чистый, фарфоровый.
И деревья в лесу были такими беззвучными, что казалось — они сделаны из камня или железа.
Старый ворон с пепельной головой и обтрепанными крыльями, внимательный и осторожный, сидя на разбитом пне, караулил добычу.
Она упала сюда ночью с неба, большая и тяжелая, воняющая гарью, и лежала неподвижно.
Старый ворон с облезлым пухом, прикрытый одними жесткими перьями, озяб… Наконец он слетел с пня и боком подскакал к лежащей на снегу рядом с черным предметом круглой ярко–красной бусинке крови. Он клюнул ее и жадно проглотил, задрав по–куриному шею.
Лежащий на снегу человек в лохмотьях полусожженного комбинезона открыл глаза и поглядел на голодного ворона удивленными, усталыми глазами. И ворон, присев, зашипел, отпрыгнул в сторону и снова взлетел на пень и стал ждать, терпеливый, голодный.
Григоренко сидел в отсеке бортмеханика, когда снаряд зенитки разорвался внутри кабины самолета. Раскаленными осколками пробило пояс с зажигательными веществами, надетый на Григоренко. Яростное пламя охватило его. Бортмеханик пытался погасить огонь огнетушителем. Но Григоренко, закрыв лицо согнутой рукой, подскочил к лебедке и, открыв бомбовый люк, прыгнул вниз, пылая как факел.
Он падал, до тех пор не раскрывая парашюта, пока не сбил пламя. Приземляясь, он зацепился за вершины деревьев и с разорванным парашютом тяжело свалился на землю.
И вот теперь, придя в себя, зачерпнув горсть снега, он жадно ел его, удивляясь, почему снег имеет привкус крови и почему ворон зашипел, как гусь. Разве вороны умеют шипеть, как гуси? Ведь они каркают.
Но постепенно сознание вместе с мукой боли возвращалось к Григоренко.
Он сел, разрезал сапог и осмотрел вывихнутую ступню. Обрывками парашюта он туго перебинтовал ногу. Остальные ушибы и ссадины не так беспокоили его, как нога. Ему нужно идти, он должен выполнить приказ.
Тяжело опираясь на палку, Григоренко пошел, глубоко проваливаясь в снегу. И черный ворон провожал его.
Потом, когда человек скрылся из виду, ворон спрыгнул на снег и стал клевать на снегу алые, как брусника, замерзшие капли крови.
На вторую ночь Григоренко уже не мог идти. Вывихнутая ступня распухла, как подушка. Он полз и не знал, отчего болело его лицо: оттого ли, что оно обожжено или обморожено? Отдыхая в оврагах или балках, он варил себе в банке из–под консервов гороховую похлебку из концентрата и жадно пил горячую мутную жидкость, когда она закипала на крохотном костре.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
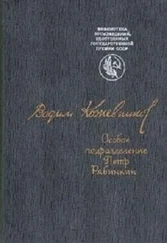

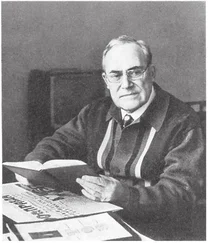

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)